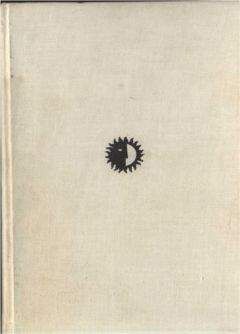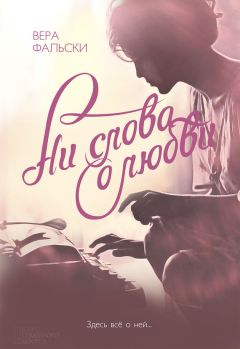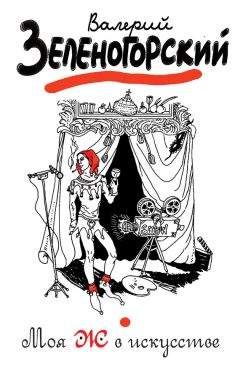Вера Домитеева - Врубель
Относительно Востока, то бишь «Микулы», всем всё было понятно.
Новгородская былина о пахаре, который могутной своей силушкой огорошил предводителя дружины Вольгу Святославича, а на предложение племянника стольного князя Владимира охотно дал согласие ехать с ним «в товарищах» и собирать получку с разбойных мужиков, читалась актуальным патриотичным символом сплочения дворянства и крестьянства. Былина эта понималась как «образ черноземной мужицкой мощи, вступающей в союз с феодальным богатырством».
«Грёза» с самого начала вызывала вопросы.
Сергею Мамонтову вспоминалось: «Когда мы требовали от Михаила Александровича объяснить, почему вдруг на промышленной выставке он выставляет „Принцессу Грёзу“, Врубель самоуверенно отвечал: „Так надо, это будет красиво“…»
По тем же соображениям Эдмон Ростан написал свою «La Princesse lointaine», стихотворную драму, воскресившую образ романтичнейшей провансальской легенды. Согласно этой легенде XIII века, трубадур знатного рода Джауфре Рюдель полюбил Мелиссанду, графиню Триполийскую, никогда не видав ее. Наслышанный от пилигримов о необыкновенных добродетелях благородной Мелиссанды, Рюдель посвятил ей немало песенных стихов и отправился в крестовый поход, мечтая получить напутствие самой графини. Увы, на корабле рыцарь тяжело заболел, в Триполи его доставили, сочтя уже мертвецом. Но когда к ложу бездыханного Рюделя явилась графиня, в ее объятиях трубадур очнулся и, вознеся Богу песенную хвалу за счастье встречи с Мелиссандой, блаженно отошел на небеса. С почетом похоронив рыцаря, скорбящая о нем графиня навеки удалилась в монастырь.
Поэт Эдмон Ростан, поклонник древней культуры родного Прованса, расширил легенду рядом психологических коллизий, и в 1895 году парижане рукоплескали его новой пьесе, а также игравшей Мелиссанду неподражаемой Саре Бернар. Всего через год «Принцессу Грёзу» увидели русские зрители.
Михаил Врубель, зимой 1895/96 года срочно вызванный в Петербург, чтобы взамен заболевшего Коровина оформить оперную, на сцене Панаевского театра, постановку Мамонтова, побывал на премьере «Грёзы» в Суворинском театре. Спектакль труппы Литературно-художественного кружка шел в бенефис исполнявшей главную роль Лидии Яворской. Публика неистовствовала. На поклоны вместе с Яворской выходила ее неразлучная подруга, переводчица пьесы Татьяна Щепкина-Куперник. Правнучке великого актера Михаила Семеновича Щепкина и дочке хорошо знакомого Врубелю по кругу киевских эстетов адвоката Льва Абрамовича Куперника было лишь 22 года, но она уже давно писала, переводила и печаталась. Хотя такого оглушительного успеха, какой получил ее вольный поэтический перевод пьесы «Принцесса Грёза», не будет иметь даже переведенный ею шедевр Ростана «Сирано де Бержерак». Сама Татьяна Львовна со смешком повествует в своих мемуарах, как в пору оваций, неутихающих в финале каждого из двадцати подряд представлений «Грёзы», «появились вальсы „Принцесса Грёза“, духи „Принцесса Грёза“, шоколад „Принцесса Грёза“, почтовая бумага с цитатами из „Принцессы Грёзы“». А еще лавка модных парижских нарядов и ювелирный магазин…
Между тем отнюдь не все примкнули к обожателям донельзя романтичной «Грёзы». Находились весьма сведущие в искусстве люди, которым пьеса решительно не нравилась. Весь период репетиций владевший театром Алексей Суворин противился постановке и, сердито стуча тростью, ругательски ругал пьесу: «Какой-то дурак едет к какой-то дуре на каком-то дурацком корабле!..» Борец за новый идеализм, критик «Северного вестника» Аким Волынский чуть не единственный раз был солидарен с реакционером Сувориным, высказавшись о пьесе Ростана — «безвкусный рифмованный бред». В Москве Яворская дважды умоляла Станиславского возглавить постановку «Грёзы» и дважды режиссер категорически отказывал, уверенный, что «выйдет гадость». Посмотрев «Грёзу» в Суворинском театре, Чехов, по свидетельству сопровождавшей его дамы, «над принцессой издевался» («романтизм, битые стекла, крестовые походы…»).
А Михаил Врубель — Врубель, несколько лет назад очарованный чеховской «Степью» и, к удивлению знакомых, «носившийся с ней», когда другим еще не открылась вершинная тонкость скромной бытовой «повести ни о чем», — этот вот Врубель, вмиг почувствовавший, оценивший чеховскую поэтику, принял высокопарную риторику «Грёзы» с восторгом! Так что? Честности ради констатировать явный сбой вкуса?
Трудный пункт в разговоре о Врубеле. Хочется его защищать, то есть услужливо стаскивать со скалы, на которой хотел стоять и стоял, и устоял-таки отважный рыцарь.
Первая в советское время персональная экспозиция Врубеля открылась в 1956 году к столетию со дня рождения художника. И надо было там присутствовать, чтобы ощутить, как рванулись навстречу Врубелю недорасплющенные казенным чугунным катком чувства зрителей. Запретный формалист Врубель восхищал безоговорочно. Чувства смелели, распрямлялись. В порыве дочиста смыть приторный крем лживого сталинского ампира возник «суровый стиль» 1960-х. И — о, ужас — искусство Врубеля, неоспоримо гениальное в целом, обнаружило оттенки порочного декоративного излишества. И есть они, сегодняшним взглядом через полвека, эти эффекты риторично театрализованной романтики? Да уж не делись никуда.
«У нее только 25 слов… упоение, моление, трепет, лепет, слёзы, грёзы, — характеризовал стихотворство своей приятельницы Татьяны Куперник ироничный Чехов, добавляя, однако: — И она с этими словами пишет чудные стихи». Пластический словарь Врубеля ни один его злейший критик бедным не назовет, но сам художник с абсолютной откровенностью признается в тяге к шаблонным, от века неизменным красивым рифмам. Здесь главное, пожалуй, — Врубель настойчиво откровенен. Романтичную романтику любимых своих сюжетов драматург Ростан окутывал легкой меланхолической улыбкой, игрой, вздохом утонченного антиквара над мечтаниями прелестных старинных вымыслов. А у Врубеля мифы, легенды вызывающе всерьез. Воссоздает он их, как выражались корифеи мужественного русского реализма, «кровью сердца и соком нервов». За штандарт «Истина в красоте!», за святую веру в дивно могучих бесстрашных богатырей и сияющих неземной нежностью принцесс он сражается без забрала. Его искусство для единоверцев, только для них.
И всё бы ничего — самое место в России для утверждения чистосердечной пылкой страсти к волшебным сюжетам, — если бы художник настаивал на реальности своих фантазий объективно натуралистичным языком Васнецова либо условностью классичных академических традиций. Но он такой безумной патетикой разразился, таким напором чувств взорвал, раздробил ласкающую глаз, плавно текущую живописную форму! А тут еще начальственные знатоки во вкусах не сошлись. А главное, как всегда, схватка из-за персональных руководящих позиций…
И разгорелся бой.
В конце февраля 1896 года в Нижнем Новгороде на подрамник длиной более двадцати метров и около пяти метров высотой натянули холст. Живописец Тимофей Александрович Сафонов начал по клеткам переносить на полотно полученный из Москвы от Врубеля эскиз «Микулы Селяниновича». Нижегородский художник Андрей Андреевич Карелин приступил к разработке орнаментального живописного фриза, опоясывающего зал и декоративно связывающего две торцевые композиции Врубеля. Далее краткая хроника событий.
5 марта. Первая сводка с театра военных действий: академик Альберт Николаевич Бенуа сообщает руководству академии, что во вверенном ему Художественном павильоне готовятся некие панно «по приказу министра финансов», в связи с чем необходимо «безотлагательно потребовать от Врубеля и Карелина эскизы предполагаемых фресок и дозволить приступить к их исполнению лишь в том случае, когда эскизы пройдут выбранное Императорской Академией художеств жюри по приему картин на выставку».
В принципе, резонно было бы согласовать два огромных сюжетных панно с организатором картинной экспозиции. И вряд ли опытный предприниматель Мамонтов полагал, что его действия в обход заведующего отделом останутся без внимания. Но больно уж заманчиво было всем явить талант Врубеля и посрамить мелких художников в больших чинах. Особых неприятностей со стороны светски общительного, беззаботного, пустовато изящного и в жизни, и в щедром производстве «симпатичных» акварельных видов Альберта Бенуа Савва Иванович не ждал. Зря — избалованный любимец петербургского высшего света был чрезвычайно оскорблен.
Середина апреля. Врубель приезжает в Нижний. Идет интенсивная работа над полотном с композицией «Грёзы». На холстах уже вполне отчетливо — во всем их разительном несходстве с привычной живописью — проявляются оба монументальных образа.
25 апреля. Альберт Бенуа телеграфирует в Санкт-Петербург: «Панно Врубеля чудовищны, необходимо убрать, ждем жюри».