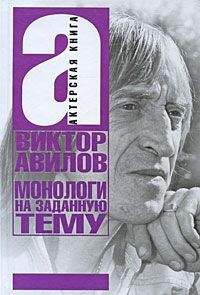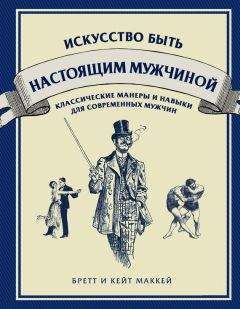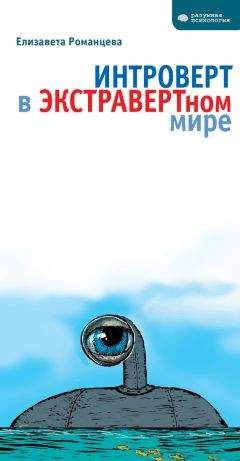Вениамин Фильштинский - Открытая педагогика
В.Г. Я считаю, что это мало связанные между собой вещи. Один из наиболее владеющих словом артистов Малого драматического театра Игорь Черневич — в Милане, когда во время спектакля повредил ногу Олег Дмитриев, и его увезли в больницу, — произносил вместо него гигантские монологи, сорокинский текст адской сложности, по бумажке. Он произносил его так, что никому в голову не могло прийти, что он держит в руках именно текст роли, который не знает. Он не допустил пи одной ошибки, ни одного сбоя, пи одной неточности — а в жизни он заика.
В.Ф. Как Илларион Николаевич Певцов.
В.Г. Да. И очень трудно изъясняющийся заика. Володя Селезнев тоже прекрасен. То, что он делает в «Исчезновении», великолепно, его речь и на русском, и на иврите, и на идиш, и на английском безукоризненна. Но он не заика. Он выпускник спортивной школы-интерната. Что, конечно, близко к заиканию. Игорь продолжает в жизни оставаться заикой, он разговаривает мучительно, но на сцене работают все же другие механизмы, и психологические, и нейромоторные — нервная система работает по какому-то другому принципу, чем в жизни. И очень часто прекрасно говорящие в жизни люди на сцене не слышны, непонятны, неинтересны, и даже когда они физически слышны, их речь в роли вызывает психическую глухоту. Человек физически слышит, но не понимает, что ему говорят. Нет видений, внутренняя сторона не оправдана. Это пустые слова, пустой голос, пустой звук. Это следующий уровень проблемы. На нервом уровне надо добиться того, чтобы было чем дышать, чем звучать, чем говорить. Второй уровень — нельзя оставлять это в виде технологической болванки, надо двигаться дальше. Один педагог по речи здесь ничего не сделает, только совместно с педагогом но актерскому мастерству, и только с тем, который сидит во мне же, педагоге по сценической речи.
В.Ф. Очень интересно. У меня, правда, сразу трусливо-консервативные мысли возникают… Нет ли здесь такого качка в противоположную сторону?
В.Г. Качок есть всегда.
В.Ф. На курсе Тростянецкого мне показалось, что я видел ребят в момент технологического рывка. Если я вас правильно понял, это сделано сознательно, и свобода чуть впереди.
В.Г. В силу того, что они занимаются в стопроцентно непригодном для этого помещении, в крохотулечной каморке, в которой нельзя воспитать сценический голос, нельзя воспитать сценическую артикуляцию, нельзя полноценно воспитать сценическое дыхание, я вынужден делать некоторый запас наперед. И я вас уверяю, ближайшая амортизация работы на большой сцене в Учебном театре все поставит на свое место, если даже не произойдет откат от необходимого минимума, то есть снижение ниже уровня ординара. В МДТ сейчас не приходится этим заниматься, за исключением тех, кто приходит со стороны, и новичков. Наоборот, немножко утихомиривать. В силу многолетнего тренинга разработано дыхание…
В.Ф. Приходится успокаивать, чтобы не орали?
В.Г. Это не ор, это полноценное использование сценического дыхания. Но вот отец того же Володи Селезнева купил билеты в первый ряд на «Звезды на утреннем небе». Там антракта нет. Он просидел до конца со своими спутниками и потом сказал: «Я больше в вашем театре в первом ряду сидеть не буду — я оглох от ваших голосов».
В.Ф. А не значит ли это, что вещи, к которым мы какое-то время относились скептически — к артикуляционной разработке, к интонации даже, которая тоже была синонимом фальши в свое время, и даже Игорь Олегович Горбачев усек это и старался говорить без интонаций, — может быть, нужно это? Речевые такты, которые предлагал Станиславский…
В.Г… пока мне не нужны. Я за живое порождение мысли, а речевые такты его убивают. Может быть, и чрезмерно накаченное дыхание может убить мысль. Но безопасных вещей в искусстве не бывает.
В.Ф. А в свое время у Станиславского Сальери не был жертвой технологизма?
В.Г. Думаю, что был. Не «технологизма», а «логизма» Волконского — он же все разбирал по Волконскому и по собственной системе. Но я бы насчет жертвы в Сальери размышлял осторожно. Есть же восторженные отзывы — в частности, Марии Осиповны Кнебель, которая видела его в школьном возрасте и говорила, что это незабываемое впечатление, что-то титаническое. Многие говорят, что он угробил роль, другие — что он был в ней титаном. Мы же видим сейчас, как считалось «угробленным» то многое, что было чем-то новым. Он сам приготовил своего Сальери к провалу. Может быть, это было нечто настолько новое, что мало кто смог оценить.
В.Ф. А беглость речи, полет, разные ритмы тоже относятся к технологическому, художественному сознанию…
В.Г. И к культурному. Потому что вне подлинной культуры мышления, чувствования, слушания, музыкальности этому научить невозможно. Я, например, в процессе подготовки той же самой «Москвы» Андрея Белого много слушал со студентами музыки, различных дирижерских интерпретаций одного и того же произведения — и им это помогало. Потому что просто средствами одной дисциплины с ее скудной аппаратурой, скудным традиционным арсеналом добиться искомого невозможно. Необходимо пытаться объять необъятное, тогда что-то отщипывается, какие-то крохи. А так ставить себе разумно умеренные цели и ждать, когда ты их достигнешь, — это гарантия, что ты не добьешься ничего.
В.Ф. Очень понимаю. Был как-то зачет на предыдущем курсе, семестр был посвящен стихотворным размерам. Я запомнил, что они, в частности, в зачине студенты трактовали свои фамилии как ямбы, хореи, амфибрахии… Вы тогда сказали, что эти ваши занятия размерами — кирпичики, как у Станиславского метод физических действий. Что имелось в виду?
В.Г. Метод физических действий предполагает осязаемые элементы, которые можно как бы потрогать руками и уложить в голове в определенном порядке. В этом смысле стопы размера, элементы стихотворной метрики — тоже можно уложить в голове. Как только человек застревает на освоении этих кирпичиков-элементов, он становится непереносим. Неподнимание на следующую ступеньку делает человека непереносимым артистом, непереносимым собеседником и, боюсь, даже непереносимым членом семьи.
В.Ф. Косвенный вопрос. Спектакль в стихах — это другая энергия или другая психология?.. Я знаю, что это совсем другое эстетическое дело, заражение зрителя другим, нежели в прозе. А с вашей точки зрения? Мы пытаемся сейчас на курсе этим заниматься, но я прекрасно понимаю, что можно быть золотыми и серебряными в смысле органики и не заговорить в стихах, и это перечеркивает всю| работу.
В.Г. При сорокалетнем опыте работы со словом у меня в жизни было всего две встречи со стихотворными спектаклями. Это «Бесплодные плоды любви» на курсе Кацмана-Додина в 1979-м году и консультирование спектакля «Мера за меру» в Театре на Литейном, который ставил Андрей Андреев. Больше у меня никакой работы со стихотворными спектаклями не было.
В.Ф. А «Пер Гюнт»? А «Евгений Онегин»?
В.Г. Так это же не спектакль, это учебная работа. Это другое дело. Спектакль — это когда на сцене, со светом, с костюмами, с полным залом зрителей, билеты продаются… Так вот, я вам могу сказать, что «Бесплодные усилия любви» — это была другая жизнь. Работу над этим спектаклем удалось сделать другой жизнью. Мы старались в жизни говорить пятистопным ямбом. Все. Это была игра, и эту игру мы распространили на жизнь. На моих занятиях мы все говорили пятистопным ямбом. Когда же выяснилось, что на это отзываются не логические структуры мозга, а какие-то совершенно иные, — студенты охотно и радостно пошли на перестройку. И после «Братьев и сестер», после оканья, бесконечного взвешивания жита и дискуссий о недостроенном коровнике, они пошли на это легко и охотно.
В.Ф. Речевой спектакль — это что за жанр? Где-то я прочел, что это изобретение Юрия Васильева, но это не существенно в данном случае. У меня было наслаждение дважды: от «Пера Гюнта» и от «Евгения Онегина». Это было просто наслаждение педагога или это могло быть показано зрителям?
В.Г. Думаю, что совершенно не надо это зрителям показывать. Это все-таки упражнения. Сейчас Тростянецкий хочет показывать «Москву». Тому зрителю, который придет в четвертую аудиторию и которого наберется сорок человек, это можно показать. Но четыремстам это нельзя показывать — ничего, кроме недоумения и непонимания, это не вызовет. Это не настоящий спектакль. Я никогда в жизни туда не пущу ни музыкальное, ни световое оформление, ни костюмы. «Москва» Андрея Белого для меня чистой воды упражнение. И если у вас это вызывает какую-то радость — это ваше педагогическое чувство.
В.Ф. В «Онегине» было что-то эмоционально задевающее.
В.Г. Это лишний раз доказывает, что это желательно и возможно в упражнении, и если это есть — хорошо, если нет — обойдемся.
В.Ф. И несколько теоретических тем. Для меня одна не слишком дискуссионна, а вторая важна и неразрешима. Первое — словесное действие. Что есть этот термин? В духе нашего сегодняшнего разговора я уже готов услышать от вас, что это не так плохо, хотя какое-то время тому назад в воздухе носилось, что этот термин не корректен как минимум, потому что действие неделимо, потому что оно — психофизический процесс, потому что слово — одна из составляющих действия, а не самостоятельный пласт…