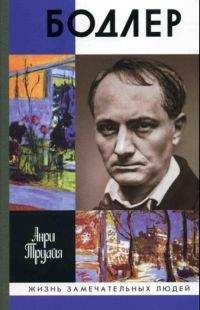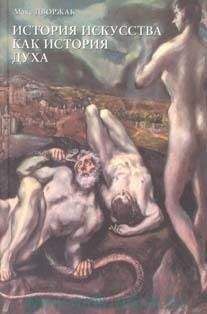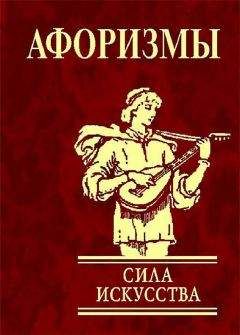Эрнст Гомбрих - История искусства
Брюссель, Королевские музеи изящных искусств.
Среди художников поколения Давида, отказавшихся от сюжетов старого типа, был великий испанский живописец Франсиско Гойя (1746–1828). Гойя в совершенстве владел лучшими традициями испанской живописи, созданными Эль Греко (стр. 372, илл. 238) и Веласкесом (стр. 407, илл. 264), и изображенная им группа людей на балконе (илл. 317) свидетельствует, что в отличие от Давида он не отрекся от мастерского владения кистью во имя достижения классической грандиозности. В Мадриде закончил свои дни в качестве придворного художника великий венецианский живописец XVIII века Джованни Баттиста Тьеполо, и в живописи Гойи есть что-то от его сияющего великолепия. И все же образы Гойи принадлежат другому миру. Две женщины, кокетливо взирающие на прохожего в то время, когда их довольно мрачные кавалеры прячутся на заднем плане, возможно, ближе к миру Хогарта. Портреты Гойи, обеспечившие ему место при испанском дворе (илл. 318), на первый взгляд напоминают традиционные парадные портреты ван Дейка (стр. 404, илл. 261) или Рейнолдса. Мастерство, с которым художник колдовал над блеском шелка и золота, напоминает Тициана или Веласкеса, но при этом на свои модели он смотрит по-другому. Если и Тициан, и Веласкес не льстили могуществу портретируемых, то Гойя, кажется, вовсе не знает жалости. Под его кистью лица портретируемых обнаруживают все тщеславие и уродство, жадность и пустоту (илл. 319).
317 Франсиско Гойя. Махи на балконе. Около 1810–1815.
Холст, масло, 194, 8 х 125,7 см.
Нью-Йорк, Музей Метрополитен.
318 Франсиско Гойя. Король Фердинанд VII Испанский. Около 1814.
Холст, масло 207 х 140 см.
Мадрид, Прадо.
Ни один придворный художник, ни до, ни после Гойи, не оставил подобных воспоминаний о своих заказчиках.
Свою независимость от условностей прошлого Гойя отстаивал не только в живописи. Подобно Рембрандту, он исполнил множество офортов, большинство из которых были исполнены в новой технике, акватинте, позволявшей не только оперировать линией, но и передавать затененные участки. Самое поразительное в гравюрах Гойи то, что они не иллюстрируют каких-либо известных сюжетов, библейских, исторических или жанровых. Большинство из них — это фантастические картины колдовских и сверхъестественных видений. Некоторые воспринимаются как обвинения, направленные против реакционных сил и глупости, жестокости и угнетения, которые Гойя видел в Испании; другие словно воплощают ночные кошмары художника. На илл. 320 запечатлено одно из видений, чаще других преследовавшее Гойю, — фигура гиганта, сидящего на краю земли. Крошечный пейзаж на первом плане подчеркивает его огромный размер; своим масштабом фигура еще сильнее уменьшает дома и замки, превращая их в мелкие пятнышки. Воображение разыгрывается при виде этого ужасного призрака, изображенного с такой определенностью, как если бы речь шла о зарисовке с натуры. Чудище в залитом лунным светом пейзаже сидит, подобно какому-то кошмарному видению. Думал ли Гойя, изображая его, о судьбах своей страны, о принесенных войной ужасах и человеческой глупости? Или же он просто создавал некий поэтический образ? Именно в этом заключался самый замечательный результат нарушения традиции — художники ощутили свободу выразить на бумаге свои тайные мысли так, как до того времени поступали лишь поэты.
319 Франсиско Гойя. Король Фердинанд VII Испанский. Деталь.
Самый выдающийся пример такого нового подхода к искусству — творчество английского поэта и мистика Уильяма Блейка (1757–1827), бывшего на одиннадцать лет моложе Гойи. Блейк был глубоко религиозным человеком, погруженным в свой собственный мир, он презирал официальное искусство академий и отказывался следовать их нормам. Одни считали его полностью сумасшедшим; другие отмахивались от него как от безвредного чудака, и лишь очень немногие из его современников верили в искусство Блейка и спасали его от голодной смерти. Он зарабатывал на жизнь, делая гравюры, иногда для других, иногда иллюстрируя свои собственные поэмы. На илл. 321 показана одна из гравюр Блейка, предназначенная для его поэмы Европа. Пророчество. Говорят, что эта загадочная фигура старого человека, склонившегося, чтобы измерить земной шар с помощью циркуля, видением нависла над Блейком, когда он поднимался по лестнице своего дома в Ламбете. В Библии (Книга Притчей Соломоновых 8: 22–28) Мудрость, взывая к сынам человеческим, произносит следующее:
«Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих… я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов..; когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны, когда он утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны».
320 Франсиско Гойя. Гигант. Около 1818.
Акватинта. 28, 5x21 см.
Величественное зрелище Господа, опускающего циркуль на лик бездны, как раз и изображено Блейком. В этом образе Создателя есть что-то от фигуры Бога у Микеланджело (стр. 312, илл. 200), которым Блейк восхищался. Но в его руках фигура становится фантастической, похожей на сновидение. И действительно, Блейк создал свою собственную мифологию, и фигура в этом видении, названная художником Уризен, строго говоря, была не самим Богом, а созданием блейковского воображения. Хотя Уризен задуман как образ создателя мира, в представлении Блейка мир олицетворял зло, а его создатель — дьявольский дух. Отсюда сверхъестественный, кошмарный характер видения, в котором циркуль уподобляется вспышке молнии во тьме грозовой ночи.
Блейк был настолько поглощен собственными видениями, что не испытывал потребности рисовать с натуры, полностью доверяясь своему внутреннему зрению. Отметить изъяны его мастерства рисовальщика нетрудно, но это означало бы непонимание смысла его искусства. Подобно средневековому художнику, Блейк не заботился о правильности изображения: значение каждой фигуры в его сновидениях было для него настолько важным, что вопрос об элементарной правильности рисунка казался просто несущественным. После эпохи Возрождения Блейк был первым художником, столь осознанно выступившим против принятых традицией норм, и вряд ли можно упрекнуть современников художника, шокированных его искусством. Только почти столетие спустя Блейк получил признание как одна из самых важных фигур в искусстве Англии.
Еще одному разделу живописи свобода художника в выборе сюжета принесла большую пользу — пейзажу. Ранее пейзаж считался второстепенным видом искусства. Живописцы, в особенности те, кто зарабатывал на жизнь созданием картин с «видами» загородных поместий, парков или живописных сцен, не воспринимались всерьез как художники. Романтический дух конца XVIII столетия в какой-то мере изменил это положение, и крупные мастера увидели свою цель в том, чтобы поднять этот вид живописи на новую, более высокую иерархическую ступень. Традиция и здесь могла либо оказать помощь, либо стать препятствием. Весьма увлекательно проследить, как по-разному два английских пейзажиста, принадлежавшие к одному поколению, решали этот вопрос.
321 Уильям Блейк. Сотворение мира. 1794.
Офорт, раскраска акварелью 23,3 х 16,8 см.
Лондон, Британский музей.
Одним был Дж. М. У. Тернер (1775–1851), другим — Джон Констебл (1776–1837). В различии между двумя этими мастерами есть нечто такое, что напоминает противопоставление Рейнолдс — Гейнсборо, однако за пятьдесят лет, отделяющих поколения, пропасть в подходе соперников к проблеме стала значительно более широкой. Тернер, так же как Рейнолдс, пользовался огромным успехом у публики и его произведения часто становились сенсацией выставок в Королевской Академии. Подобно Рейнолдсу, он был приверженцем традиции. Главным предметом его желаний было сравняться с прославленными пейзажами Клода Лоррена (стр. 396, илл. 255), если не превзойти их. Когда он завещал свои картины и эскизы нации, то сделал это на определенном условии: одно из его полотен (илл. 322) должно постоянно экспонироваться рядом с работой Клода Лоррена. Хотел ли Тернер обернуть это сравнение в свою пользу? Красота пейзажей Лоррена заключается в их безмятежной простоте и спокойствии, в ясности и конкретности созданного художником мира грез, в отсутствии кричащих эффектов. Тернер также изображает фантастический мир, залитый светом и блистающий красотой, однако его мир — это не покой, но движение, не просто гармония, но ослепительное великолепие. Художник буквально «втискивает» в свои картины все, что может придать им большую выразительность и драматизм; и будь он менее талантливым живописцем, это желание поразить публику могло бы привести к гибельному результату.