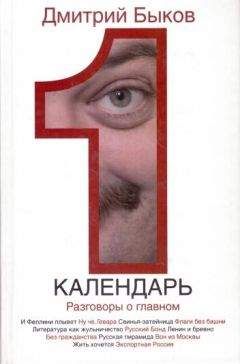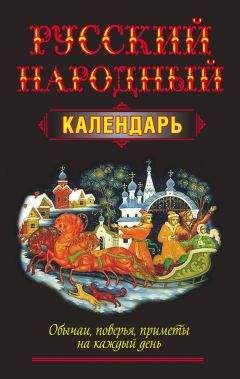Дмитрий Быков - Тайный русский календарь. Главные даты
Когда Шпанов отвлекается от авиации на личную жизнь героев, пейзажи и громкую идеологию — видно, как ему все это скучно. Зато когда речь заходит о ТТХ (тактико-технических характеристиках), скорости, высоте полета — он в своей стихии, и в стиле его, нарочито стертом, появляется даже нечто поэтическое. В описаниях отрицательных героев он явно наследует Жюлю Верну — все они сплошь аристократы и развратники, не умеющие ничего спланировать на сутки вперед. Наши же необыкновенно четки, быстры и деловиты — новый, не являвшийся прежде образ «массового человека», весьма показательная эволюция от рохли и мечтателя к железному, все умеющему конструктивисту. И некие черты этого нового облика были реальны. Скажем, вышеупомянутый азарт, жажда сделать невозможное и явить его миру, а главное — все та же свежесть, восторг первопроходца, зашедшего туда, где никто еще не бывал! Фашизм опирался на архаику, на подвиги дедов, искал идеала в прошлом, но первопроходчество, в том числе и социальное, бредит только будущим, и в этой модернистской ориентации — главное различие между двумя тоталитарными режимами, различие, которого не чувствуют люди с отбитым обаянием. Они ходят на выставку «Москва — Берлин», любуются тяжеловесными спортивными Брунгильдами и кричат об эстетических сходствах; но стоит им сравнить тевтонскую прозу с романами Шпанова (хотя бы роман Роберта Кнаусса под псевдонимом майор Гельдерс «Разрушение Парижа», демонстративно переведенный и выпущенный в СССР, — с тем же «Первым ударом»), и все интонационные, фабульные и эмоциональные различия сделаются наглядны. И это уже не градация во вкусовых качествах ботиночных шнурков, а полярность самой ориентации: от фашистской утопии, равно как и от нынешних «суверенных» потуг, несет отборной тухлятиной, а утопии времен советского проекта — от «Иприта» того же Шкловского с Ивановым до «Аэлиты», от «Звезды КЭЦ» Александра Беляева до «Глубинного пути» Николая Трублаини — веют свежестью, ничего не поделаешь. Хорошие люди с правильными ценностями, с верой в разум и в необходимость человеческого отношения к человеку, идут, летят, плывут и растут в том направлении, где никто еще не бывал. И этого озона ничем не отобьешь — сколько бы ерунды ни написал Шпанов после войны, когда проект начал выдыхаться. Ведь в «Первом ударе» нет ксенофобии, вот в чем дело: в военном романе — и нет! Потому что это роман о ХОРОШИХ немцах, свергающих собственный режим, и о том, как русские побеждают Германию В СОЮЗЕ С НЕМЦАМИ. Идиотская вера, но трогательная. А вот в поздних сочинениях Шпанова, чуткого к воздуху времени, повеяло как раз архаикой и — более того — сусальностью; войны уже не было, она была уже совсем, так сказать, холодная, а враги уже были везде, и прежде всего в Штатах. Мир был уже безоговорочно враждебен, а главный положительный герой, легендарный сыщик Нил Кручинин, следователь с душой художника, писал такие, например, пейзажи: «Нил Платонович сидел на парусиновом стульчике посреди лужайки, окаймленной веселым хороводом молодых березок. Перед Кручининым стоял мольберт; на мольберте — подрамник с натянутым холстом. У ног Кручинина лежал ящик с тюбиками, выпачканными красками и измятыми так, что нельзя было заподозрить их владельца в бездеятельности. Но палитра Кручинина была чиста, и рука с зажатой кистью опущена. Склонивши голову набок, Кручинин приглядывался к березкам, словно они заворожили его и он не мог оторвать от них взгляда прищуренных голубых глаз».
По Шпанову наглядно можно судить об этапах перерождения советского проекта — от его раннего конструктивистского модернизма в поздний квасной пафос, от интернационализма к синдрому осажденной крепости, от оптимизма в отношении человеческой природы (в том числе и германского пролетариата) — к мрачному мироощущению, заполнявшему мир «Заговорщиками», «Поджигателями» и «Ураганами». Отдыхал он душою только на стилизациях в духе «Старой тетради», хотя и там подхалтуривал, ибо многое тырил, скажем, у Эдгара По. Сравните то, что писал Шпанов до и во время войны, с тем, что он ваял после, — и причины советской катастрофы станут вам очевидны. Но и с поздними его сочинениями «Воинов креатива» и «Американское сало» не сравнить: Шпанов вызывает чувство горечи, а его нынешние аналоги — чувство гадливости. Почему бы?
А потому, что Шпанов верил в то, что писал. Это и есть чистое сливочное масло пропаганды: главной особенностью так называемого суверенного дискурса является не экспертная, а экспортная его природа. То есть ориентация на другого потребителя — заграничного ли, отечественного ли, живущего этажом ниже. Сами хозяева дискурса не верят ни одному своему слову и даже подмигивают тем, кто кажется им «своими»: ну вы же видите.
А Шпанов — верил. Может быть, потому, что он был не такой умный, а может быть, потому, что слова хозяев дискурса не так расходились с делами, и дети главных идеологов ксенофобии не обучались за границей, и заграничных вкладов у них тоже не было. Есть только один рецепт качественной агитлитературы: ты должен хотеть жить в мире, который рисуешь в качестве положительного образца, и верить в собственные слова. Это, кстати, касается в первую очередь утопии Стругацких, которые сформировались под прямым влиянием раннесоветского утопизма. Позднесоветские времена были в основном отмечены уже антиутопиями о холодных противостояниях, осадах и подкупах; апофеозом этой белиберды стало кочетовское «Чего же ты хочешь», роман во многих отношениях фантастический, в том числе фантастически смешной. Символично, что раннесоветская утопия была о страшной войне, а поздние апокалиптические сочинения — о мире; почувствуйте разницу самого качества жизни. Впрочем, это отчасти и возрастное: молодость сильна и бесстрашна — старость слабеет и всего боится, кругом враги, не вылезешь из норы своей коммунальной, чужие дети хамят, соседка нарочно рассыпает по кухне свои крашеные волосы…
Современная российская пропаганда, мягкообложечная, крикливая и напыщенно наглая, соотносится с прозой Шпанова примерно как мир Саракша с миром Полдня. Мир Полдня — особенно у поздних Стругацких — тоже не рай, там возрастает роль Комкона (организации с прозрачными прототипами) и все очевидней становится расслоение на людей и люденов, но это все-таки не Саракш. Не Саракш.
Впрочем, Михаил Харитонов обоснованно предположил, что Саракш был лишь заповедником, учрежденным комконовцами для обкатки некоторых идей вроде башен-ретрансляторов. Потому что мир Полдня в этих башнях нуждается чем дальше, тем больше.
22 июня. Родился Дэн Браун (1964)
Код Репина
Главным мировым бестселлером 2004–2005 годов стал роман американца Дэна Брауна «Код Да Винчи», немедленно породивший груду вспомогательной литературы («Взламывая код Да Винчи»), судебных исков, заявок на экранизацию и маркетинговых исследований.
Первый вопрос, возникающий у критика, — возможен ли роман, подобный «Коду», на русском материале? Всемирным бестселлером ему, понятное дело, не стать (русский материал нынче не в моде), но способен ли хоть один отечественный беллетрист выдать на-гора настоящий культовый роман и каким он должен быть, если переносить рецепты Брауна на русскую почву?
Прежде всего Браун может служить отличной иллюстрацией к одному тургеневскому стихотворению в прозе, где описан один чрезвычайно читающий город. Главный поэт этого города сочинил стихотворение, прочел — и сограждане его дружно освистали. Тогда другой поэт, поплоше, несколько ухудшил текст — и сограждане его превознесли. Мудрец утешил освистанного: «Ты сказал свое — да не вовремя, а он чужое — да вовремя». В истории литературы, как правило, так и бывает: пишешь шедевр — не понимают, разбавляешь в пропорции 1:5 — доходит.
«Код да Винчи» — не просто Умберто Эко, брошенный в массы, или Перес-Реверте, лишившийся единственного хорошего, что у него было, а именно остроумия. В конце концов, конспирологические романы о сектах сочинялись давно, их просветительская роль даже позитивна, если угодно (откуда бы еще массовому читателю узнать тайны Ватикана или расположение залов Лувра?), и тут Браун никакого велосипеда не изобрел. Иное дело, что у него было два предшественника, об одном из которых он, вероятно, понятия не имеет, зато уж второй ему известен наверняка, потому что ободрал он его, как липку. Первый — Ерем ей Парнов, автор «Ларца Марии Медичи», в котором уже в 1972 году были все браунские и многие эковские фишки: таинственный стишок, содержащий указания на клад; шифры; секта тамплиеров и ее сокровища… Правда, в семьдесят втором еще не знали, что такое альтернативная история (хотя уже писали в этом духе), а потому версии насчет Христа и Магдалины там не было, хотя была другая, про Грааль. Всякому автору, сочиняющему роман о поиске таинственного сокровища, приходится решать мучительный вопрос: что такое найдут герои в конце? Трудно придумать нечто грандиозное, и сокровище в большинстве случаев оказывается недосягаемым либо несуществующим; Парнов поступил изысканно — утопил его вместе с целым островом, пошедшим на дно в результате землетрясения. Думаю, что сегодня «Ларец Марии Медичи», переведи его кто-то на английский и сильно раскрути, стал бы мегахитом — книга написана ярче и увлекательней «Кода», да вдобавок вдвое короче. Что касается второго предшественника — той самой липки, из лыка которой Браун сплел внешнюю канву и всех героев, — это уж буквально из тургеневского стихотворения. Мой любимый американский беллетрист Ирвин Уоллес написал фигову гору романов, лучший из которых — «Слово» (тоже, по странному совпадению, 1972-й). Его у нас издали, высокомерно отругали и забыли, а роман-то классом повыше Брауна, не говоря уж о том, что это настоящий христианский роман, с глубокой и остроумной мыслью. Речь там идет как раз о фальсификации Евангелия и об отважном атеисте, который с помощью дюжины ученых и одной красотки эту фальсификацию разоблачает. Но чем дальше он углубляется в козни и хитросплетения врагов, проявляя при этом все высшие христианские добродетели, тем ближе оказывается к Богу: «Откроюсь не искавшим меня». Так что в конце, все вроде бы разоблачив, он как раз уверовал. Слизано все — герои, героини, профессора, основные коллизии и даже некоторые особо хитрые сюжетные повороты, но таланта-то не украдешь. Поэтому роман Уоллеса остается блестящей и умной христианской литературой, а «Код да Винчи» — вполне заурядным чтивом.