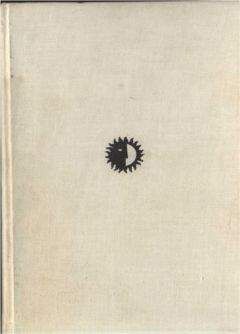Джон Глэд - Беседы в изгнании - Русское литературное зарубежье
ДГ. Так что вас можно считать поэтом послевоенного времени?
ИЧ. Да, мои стихи довоенные, собственно, значения не имеют. Кое-что я напечатал в парижском журнале "Числа", очень передовом журнале. И это случилось так: меня нашел еще в Риге Георгий Иванов и почему-то ему понравились мои стихи, даже и статья моя - это все было напечатано в "Числах".
Но только с первой моей книги "Монолог" начался, если угодно, настоящий Чиннов. Тогда я писал в стиле так называемой "парижской ноты". Это было течение, руководимое именно Георгием Адамовичем, и идея этой "парижской ноты" состояла в простоте, в очень ограниченном словаре, который был сведен к главным словам, самым главным, незаменимым. Настолько хотели общего в ущерб частному, что говорили "птица" вместо "чайка", "жаворонок" или "соловей"; "дерево" вместо "береза", "ива" или "дуб". Мы считали, что надо писать стихи как бы последние, что мы как бы заканчиваем русскую поэзию здесь в эмиграции, и не нужно ее никак украшать, не нужно никаких орнаментов и ничего лишнего. Мы искали именно бедного словаря, то есть основного, без всяких орнаментов, самое основное неустранимое:
Порой замрет, сожмется сердце,
И мысли те же всё и те,
О черной яме, "мирной смерти",
О темноте и немоте.
И мнится: смутный, тайный признак,
Какой-то луч, какой-то звук
Нездешней, невозможной жизни
Пока улавливаешь вдруг.
Здесь есть слова, очень существенные для "парижской ноты": "какой-то луч", "какой-то звук" - так сказать, световое, зрительное и слуховое; но слова, означающие то, что как бы нашу жизнь пронизывает, - луч и звук вместе с темой "нездешней, невозможной жизни".
ДГ. Меня удивляет, что вы, как вы сами говорите, представитель "парижской ноты", начали писать после Второй мировой войны. Принято считать, что "парижская нота" - явление довоенное.
ИЧ. Совершенно верно. Я как бы довесок, запоздалый отклик на эту "парижскую ноту".
"Парижская нота" пошла довольно далеко по пути продолжения акмеизма, но дальше всех пошел, как писал Владимир Вейдле, будто бы я. И он уверяет, что я будто бы исчерпал эти возможности, что самые простые стихи уже написаны, писать дальше в этом духе было бы только повторением прошлого, и что я как бы уткнулся в стену и начал нечто другое.
В первой книге "Монолог" и в книге "Линии" нет стихов обогащенных, нет стихов с какими-то орнаментами. А начиная с третьей книги, "Метафоры", я начал писать более свободно, там некоторые стихи написаны свободным размером, но все-таки они очень ритмичны. Я всегда хотел музыкальности. Это не все делали. И другой представитель "парижской ноты", Анатолий Штейгер, прелестный поэт, писал несколько суховато, немузыкально и без всякой орнаментики. Правда, это звучало даже более горько, чем мои стихи, за исключением моих стихов в книге "Партитура".
В "Партитуре" есть очень грустные стихи и есть гротески. Вейдле и, кажется, Георгий Адамович отметили, что при всей "пышности одежд" моих новых стихов все-таки осталось в них главное - сосредоточенность на человеческой судьбе, на безысходности человеческого удела, всякого, на смерти. Они указали на то, что там есть все-таки верность "парижской ноте" в ее главном - в серьезности.
Голубая Офелия, Дама-камелия,
О, в какой мы стране? - Мы в холодной Печалии
(Ну, в Корее, Карелии, ну, в Португалии).
Мы на севере Грустии, в Южной Унынии,
Не в Инонии, нет, не в Тоскане - в Тоскании.
И гуляет, качаясь, ночная красавица,
И большая купава над нею качается,
И ночной господин за кустом дожидается.
По аллее магнолий Офелия шляется.
А луна прилетела из Южной Мечтании
И стоит, как лунатик, на куполе здания,
Где живет, где лежит полудева Феврония
(Не совсем-то живет: во блаженном успении).
Там в нетопленном зале валяются пыльные
Голубые надежды, мечты и желания
И лежит в облаках, в лебеде, в чернобыльнике
Мировая душа, упоительно пьяная
Лизавета Смердящая, глупо несчастная,
Или нет - Василиса, нет, Васька Прекрасная.
Как видите, у меня Лизавета Смердящая, Васька Прекрасная - это мировая душа!
Можно отметить, что в этом гротеске очень много звуков "л", которые любил Лермонтов.
Здесь есть то, против чего восставал в свое время Сергей Есенин, -глагольные рифмы. Он упрекал Осипа Мандельштама за глагольные рифмы. Потом я отошел от глагольных рифм, решил, что это все-таки слишком легко, и начал подыскивать к глагольным рифмам какие-то существительные.
Кстати, стоит отметить, что все мои книги названы словами латинского или греческого корня - всегда одно слово.
ДГ. Это потому, что вы считаете себя космополитом?
ИЧ. Совершенно верно. Я подчеркивал, так сказать, традицию человеческой культуры, в частности традицию, идущую из античности. Для меня это существенно - отсюда моя верность греко-латинской европейской традиции. Я русский поэт, люблю Россию, но, вместе с тем, люблю просто нашу общеевропейскую цивилизацию и культуру.
ДГ. Многое из того, что вы говорите, напоминает мне манифест Мандельштама - "Утро акмеизма", где высказываются как раз такие мысли. Конечно, акмеизм считается предшественником "парижской ноты".
ИЧ. Я от нее ушел, но я чуть ли не последний ее представитель. Самый типичный был именно Анатолий Штейгер. Еще было несколько человек, в том числе Юрий Терапиано, хороший поэт, но недостаточно оцененный. А в Америке, я думаю, только я один и близок, и из нее вышел. Но нельзя все время повторяться. Вот я и решил обогатить словарь и теперь стремлюсь не к этой бедности, не к упрощению, а как раз к усложнению словаря. В частности, хочу в стихи вводить слова, которых в стихах давно не было. Седьмая моя книга называется "Антитеза" в смысле противоположения моей предыдущей книге. Та называлась "Пасторали". В "Пасторалях" нет никаких гротесков, никаких совершенно. Там есть красота мира с горьким чувством обреченности и краткости нашей земной жизни. А иностранные слова существуют в большом количестве в моей книге "Композиции" и в "Антитезе", где я возвращаюсь к гротескному, сатирическому, даже сардоническому тону. Этого вовсе не было в "Пасторалях".
ДГ. Да, я считаю совершенно замечательным, что, хотя вы человек уже не молодой, ваше творчество развивается такими, что называется, "бурными темпами". О вас написано, если не ошибаюсь, около 60 критических работ?
ИЧ. Я очень рад, что обо мне так много писали, но мне кажется, что многие критики, пожалуй, не отметили самого главного - это мое желание дать музыкальную интонацию и вместе с тем совершенно обыденную и житейскую. Вот у меня стихотворение, которое начинается выражением очень житейским - "то то, то другое". Я повторил это дважды, и вышла стихотворная строчка. И вот это короткое стихотворение возвращается в моей шестой книге "Пасторали":
То то, то другое, то то, то другое,
А хочется озера, сосен, покоя.
Среди ежевики, синики, черники.
И голос души, словно тень Евридики.
И больше не прибыль, не убыль, не гибель,
А лист, пожелтелый, в надводном изгибе.
И жук, малахитовый брат скарабея,
Жужжавший в траве, от нее голубея.
Там, словно под сенью священного лавра,
Корова лежит с головой минотавра.
Египетским богом там кажется дятел,
И ты наблюдаешь, простой наблюдатель,
За уткой, которая в реку влетела,
Как в небо душа - только более смело.
Как видите, здесь образ обратный: мы всегда говорили о минотавре с головой быка, а у меня корова с головой минотавра. И там есть жук малахитовый скарабей. Все знают, что это египетские каменные жуки из драгоценных камней, священные. Были такие настоящие, живые скарабеи лазурного цвета. Их египтяне считали священными. Так вот у меня есть "малахитовый брат скарабея, жужжавший в траве, от нее голубея". Критики правильно отмечали красочность моих стихов, обилие красок и обилие образов.
В какой-то степени я имажинист. У меня очень много предметов. Это вещественная поэзия. Вместе с тем, у меня есть стихотворения, где предметы почти отсутствуют. Понемногу и постепенно вещи приобрели у меня индивидуальные черты, не общие. Я ушел, так сказать, от общего, придя к частному.
ДГ. О вас что-нибудь написано в России, или ваше имя полностью там замалчивается?
ИЧ. Вы знаете, я могу так ответить на ваш вопрос. У меня есть стихи о моей поездке в Колумбию - в такие города, как Богота или Картахена. Музей Золота в Боготе - совершенно изумительный музей доколумбийских вещей. В этих стихах я говорю о том, что умельцы, сделавшие эти поразительные фигурки из чистого золота, остались неизвестными. И потом у меня есть там такие строчки:
Ты тоже мастер золотых изделий
Из чувств и рифм, звучаний и видений.
И письменность у нас...
(Я говорил о том, что мексиканской письменности не существует или существует какая-то очень недостаточная, и вот:)
И письменность у нас, но имена
Не знает наши наша же страна.