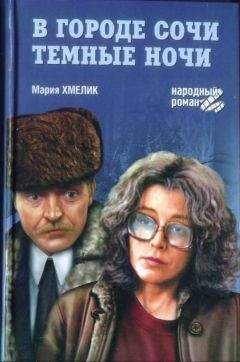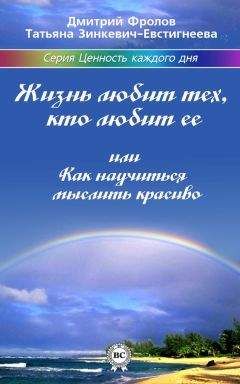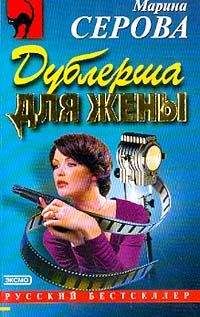В Михалкович - Поэтика фотографии.
Пер Гюнт Ибсена и впрямь соткан из противоречий. Принявшись за какое-нибудь дело или задумав что-то, он в следующий момент уже разрушает свой замысел. Плывя богачом на родину, собирается - от полноты чувств - наградить каждого матроса и тут же, лишив моряков премии, начинает презирать их. Увидев в бушующем море людей, потерпевших крушение, требует, чтобы их спасли, а через какое-то время, когда затонул его корабль, сталкивает с обломка шлюпки судового повара, обрекая того на гибель. Гюнт жаждет непротиворечивости - в финале он спрашивает Сольвейг: "Где был „самим собою" я - таким, // Каким я создан был. - единым, цельным..." (выделено нами. - В. М. и В. С.) - и слышит ответ: "В надежде, вере и любви моей!" Не мечущимся между противоречиями Гюнт пребывает лишь в мыслях женщины, всю жизнь его любившей. "Возможный мир", который по всему земному шару искал герой и в котором желаемые свойства стали бы действительными, сам оказывается недействительным. Он существует не в каком-то географическом месте, но только лишь в душе Сольвейг.
Фотография у Ибсена понимается как некая модель противоречивости современного ему человека; более того, словно укрупняет, увеличивает эту противоречивость. Посланец чистилища - Худощавый - говорит Гюнту, что в Париже изобретен способ делать снимки посредством солнечных лучей. При этом получаются изображения обратные: "...иль, как//Зовут их, - негативы, на которых//Обратно все выходит - свет и тени; // На непривычный взгляд такие снимки//Уродливы, однако есть в них сходство //И только надобно их обработать". В дополнение к реальному человеку фотография как бы создает его отрицание и тем самым усиливает "натуральную" противоречивость. Вместе с тем фотография - это и шанс придать человеку цельность, хотя и не в реальности, а, так сказать, посредством лабораторной обработки. Худощавый жалуется Гюнту, что люди измельчали и озлились - стали "негативами" самих себя. Худощавый возвращает им первоначальный, "позитивный" вид в результате почти фотографических операций: "Окуриваю серными парами,//Обмакиваю в огненные смолы//И снадобьями разными травлю, // Пока изображенье позитивным, // Каким ему и быть должно, не станет". Адская кухня Худощавого осмысляется в пьесе как аналог фотографической лаборатории.
Справедливо и обратное утверждение: фотографическая лаборатория оказывается для Ибсена аналогом адской кухни, где искусственно, лишь одними техническими операциями людям придают цельность.
"Возможный мир" у Достоевского. Взгляды писателя на фотографию претерпели существенную эволюцию. Начальной ее точкой можно считать статью "Выставка в Академии художеств за 1860-1861 год". Фотография сопоставлена в ней с зеркалом: "Фотографический снимок и отражение в зеркале - далеко еще не художественные произведения", поскольку основная характеристика и снимка и отражения - их "верность и точность". Как многие в то время (да и потом), Достоевский отождествляет фотографию с бескрылым копиизмом. Однако осуждает он копиизм не огульно, не как таковой, а по совершенно определенной причине: "В зеркальном отражении не видно, как зеркало смотрит на предмет, или, лучше сказать, видно, что оно никак не смотрит, а отражает пассивно, механически".
Фотография, по тогдашним убеждениям Достоевского, тоже "никак не смотрит" на предмет и оттого тождественна зеркалу. Нехудожественность зеркального отражения и снимка предопределена, как полагал писатель, отсутствием позиции - не чисто пространственной, но осмысляющей видимое.
Через полтора десятилетия в монологе Версилова из "Подростка", по существу, говорится о том, что фотография способна иметь точку зрения. Она может, к примеру, противоречить распространенному, утвердившемуся мнению о каком-либо человеке. В динамике бытия камера застает иногда объект съемки, "как есть и весьма возможно, что Наполеон в иную минуту вышел бы глупым, а Бисмарк нежным". Наполеон был гениальным стратегом, Бисмарк носил прозвище "железный канцлер". Представления о недюжинности ума одного и жесткости другого утвердились и закрепились в умах людей, получив статус идеальных и неизменных признаков. Эта неизменность словно выводит обоих из реального мира, который текуч, динамичен. Снимок же, показывая Наполеона глупым или Бисмарка - нежным, возращает их снова в динамичную реальность и вместо "возможного мира", где идеальные качества действительны, как бы предлагает зрителю мир "невозможный", то есть не подтверждающий распространенное мнение о Наполеоне и Бисмарке. Тем самым снимок задает определенную точку зрения на них.
Однако аппарат не только строптиво противоречит идеализации - он может фиксировать и "возможный мир", где идеальные свойства оказываются реальными. Аркадий, герой "Подростка", придя к Версилову, видит фотографический портрет матери, где Соня запечатлена в ее "главном мгновении - стыдливой, кроткой любви и несколько дикого, пугливого... целомудрия".
Фотография у Достоевского и впрямь эволюционирует - из подобия зеркала превращается в средство запечатления "возможных" и "невозможных" миров. Такая смена взглядов происходила, вероятно, в параллель со становлением творческого метода писателя. Действие поздних его романов разворачивается в местах реальных, точно названных - иные сохранились до сих пор. И сейчас можно посетить дом, где жил Раскольников, преодолеть тринадцать ступенек, по которым тот поднимался. А. Г. Достоевская вспоминала, как на прогулке Федор Михайлович привел ее во двор одного дома к камню, под которым Раскольников прятал деньги. Подлинные реалии Старой Руссы присутствуют в сюжете "Братьев Карамазовых".
В телевизионном фильме "Поэзия садов", посвященном ленинградским паркам, академик Лихачев показывал в Павловске место, где встретились Аглая и князь Мыш-кин. Писатель упорно локализовал своих персонажей в подлинной реальности - так же, как гипотетический его фотограф локализовал идеальных Наполеона и Бисмарка в действительном мире.
4. СМЫСЛ КАДРА
Отношение к материалу. Съемка ныне мгновенна, потому аппарат фиксирует даже процессы быстротечные, еле уловимые. Мгновенность фиксации сталкивает фотографа с проблемой специфической, неведомой другим искусствам. "Схватывая" мельчайшие временные доли, фотограф постоянно оказывается перед фактом, что увиденная им композиция, еле проглянувший "возможный мир", уже распался, ушел в небытие.
Античное "панта рей" (все течет) никто не ощущает так остро, как фотограф. Время оказывается для него врагом, с которым снова и снова приходится вступать в схватку, спасая от исчезновения экспрессию видимой реальности. Из этой борьбы родилось правило: "Ничто не повторяется дважды, особенно тот кадр, который увидел и не снял. Поэтому заметил - снимай не раздумывая". Правило относится не только к событийной съемке, оно справедливо и для работы в относительно статичном пейзаже, ибо "в другой раз даже при таком же солнце может не быть таких же облаков, а значит, и характер освещения будет не таков. В другой раз может исчезнуть легкий ветерок, изменится само наше восприятие. То, что сегодня вызывало у нас интерес, вдохновляло нас, назавтра может показаться скучным. Исчезнет почти неуловимое то, что вчера еще вызывало наше волнение".
Фотограф ловит миг времени, который сразу же канет в прошлое, растворится в небытии. Радуясь умению поймать его, он нередко подчеркивает доступными средствами быстротечность фиксируемого момента, как это делают С. Жуковский в "Кипящем чайнике" [1.16] или А. Будвитис в "Велосипедисте" [1.17].
Человек на велосипеде смещен у Будвитиса к правому краю кадра. Смещение приводит к неуравновешенности композиции, которая и воспринимается как результат мгновенности, скоротечности процесса, запечатленного фотографом. Зеленовато-коричневый асимметричный конус в верхней части снимка кажется поперечной улицей, ведущей в никуда. Велосипедист вскоре покинет перекресток и этим также подчеркивается мимолетность происходящего. Но более всего ощущение мимолетности связано со смазанностью фигуры и велосипеда - из-за скорости движения, уловленного камерой, как бы начали разрушаться формы предметов.
В снимке Жуковского "тело" чайника тоже распадается. Струи пара, сквозь которые фиксируется объект, сделали его текучим, подвижным. Не только корпус, но и крышка чайника и его дужка воспринимаются подвижными: концентрические желобки на крышке - точно волны, расходящиеся от шишечки, волнообразной кажется и дужка. Фотограф запечатлел здесь не просто физическое движение, но саму динамику материи.
Для фотографа внешний мир - бездонный кладезь экспрессии, но реальность как бы дразнит ею фотографа: на миг приоткроет нечто выразительное и тут же спрячет навсегда. Один философ сказал о поэзии: "...его (поэта. = В. М. и В. С.) мысль играет со словами и значениями их так же, как природа в каждой спонтанной ситуации играет со своей собственной структурой". В литературе писатель имеет дело как бы с двумя разными играми. Он видит и чувствует игру реальности - бесконечность ее метаморфоз и превращений. Когда литератор желает воссоздать метаморфозы, ему приходится начинать собственную игру - он заставляет слова преображаться, трансформирует их значения. Что же касается фотографа, то бытует убеждение, что ему игра с материалом не присуща, что он имеет дело лишь с одной игрой - той, которую реальность ведет со своими структурами.