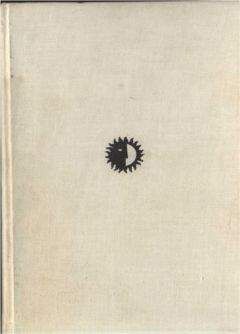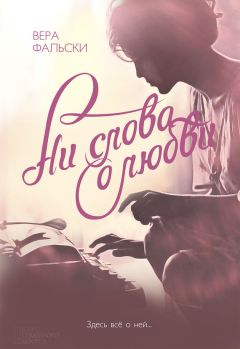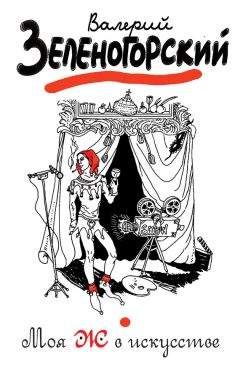Вера Домитеева - Врубель
Страдая от недостатка образованности, преклоняясь перед учеными умами, Иванов выработал педантичный «метод сличения». Для каждого лица в огромной многофигурной композиции десятки эскизов, копии с картин, зарисовки классической скульптуры, портретные типажи современного еврейского гетто. Всякий камень, всякий кустик полотна о явлении Искупителя выверялся множеством этюдов на натуре. Работавшие в Риме русские художники считали безумным и этот метод, и его автора. Рисовали карикатуры, в которых Иванов, обросший, одичавший, на больных глазах очки, из-под плаща обтрепанные панталоны, с посохом странника блуждает по римским окрестностям. Товарищей, их веселой компании художник чурался. Мнительность его разрослась до подозрений, что кто-то хочет его отравить. Мастерскую он запер чугунными засовами, никого не пускал, гигантский холст никому не показывал. Измученный, полуголодный, держался убеждением — «сего труда ни один человек, кроме меня, кончить не может».
И с помощью исхлопотавших ему денежные пособия Гоголя и Жуковского свою картину Александр Иванов завершил. Дописал полотно безразличной вялой кистью. Энтузиазма не нашлось, чтобы под конец хотя бы покрыть холст общим тоном, объединить пестроватый колорит. Горьки были переживания живописца, охладевшего к своему творению. Еще горше — художник утратил веру. Набожный восторг, о чистоте и высоте которого он радел 20 лет, растаял. Теперь в мечтах ему рисовался невиданный, отнюдь не церковный храм, где будет представлен «результат всех верований». По стенам колоссального сооружения разместятся сотни монументальных картин. Осью рассказа о духовном пути человечества станут эпизоды земной жизни Христа, сопровождать их будут параллели сюжетов Ветхого Завета, образов античной мифологии. Художник тщательно продумал содержание, схему расположения картин. Предстояло сочинить 500 композиций, 200 эскизов цикла Иванов успел сделать.
У Александра Иванова имелось совершенно конкретное представление об идеальном русском художнике. В записях, озаглавленных им «Мысли при чтении Библии», четко расписано, что, как и для чего надлежит делать художнику. Определен его социальный статус, даже вид — это «почетный гражданин, одет по-купечески». Ему открыт свободный доступ во дворец, хотя на царских церемониях он лишь присутствует и «ни в какие дела не мешается». Но «в грустный или ярый час царя он составляет Гусли» (образ, навеянный песнопениями Давида перед Саулом), «то есть рассказывает Государю какой-нибудь эпохический факт Библии», а под конец рассказа, смывшего с души правителя печаль и ярость, «показывает оконченный эскиз, который до сего времени держит в величайшем секрете», и священная мудрость зримо открывается публике. Смысл всего — «таким образом смягчается нрав Царя посредством искусства Живописи и располагает его к Благотворениям для своего народа». Не забыт пункт о материальных условиях живописца: «Художник живет милостинным подаянием, у его дома стоит кружка…»
Исключительной странностью отличался наивный, как дитя, пронзительно честный, абсолютно гениальный Александр Иванов. В причудах упрямого характера с ним мог сравниться разве что Николай Ге.
Темперамент Николая Николаевича Ге захлестывал до края и через край. Этого художника в творчестве и по жизни вел экстаз. Воспламенившись героизмом товарища по киевской гимназии Пармёна Забелло, который ради учебы на скульптора чуть не пешком добрался с юга до Петербурга, Николай Ге мог в одночасье «прозреть», увидеть превосходство искусства над наукой, бросить университетскую учебу на физико-математическом факультете, поступить в Академию художеств. Пылая восторгом духовного родства, он мог жениться на старшей сестре Пармёна фактически по переписке, сделав девушке предложение еще до очного знакомства. Помимо идеализма у Ге, несомненно, были задатки лидера. Он и стал им после невероятного успеха его «Тайной вечери». Академия вне лестницы чинов наградила автора званием профессора, реалисты рукоплескали, образ драматичного противостояния учителя и ученика-отступника в сотнях снимках разошелся по стране, картину за большую сумму приобрел государь. Цель — «найти свою мысль, свое чувство в вечно истинном, в религии человеческой» — была достигнута. Чего недоставало? Формы! Свежей, зажигательной, непосредственно выражающей горение чувства формы.
Как рассказывает сам Ге, он искал ее «в стороне и от академизма, и от передвижничества, от ремесленной выучки первых и от дилетантской кустарности вторых». Нащупал он свою дорогу живописью полотна «Вестники Воскресения». Сюжет здесь построен на контрасте тьмы и света: справа покидающие Голгофу палачи, скотоподобные римские воины, слева спешит в город, почти летит в лучах зари Магдалина, просветленная виде́нием воскресшего Спасителя. Показанную на выставке в Петербурге эту картину злопыхатели открыто, друзья втихомолку осмеяли. Магдалину сравнивали с «крупной птицей вроде сороки», экспрессивно написанный холст виделся наспех подмалеванным эскизом. Зато автор великолепно комментировал свою новую живопись. На его «четвергах» собирался цвет литературы: Тургенев, Некрасов, Салтыков, постоянно бывали историки Костомаров и Кавелин. Заслушивались речами Ге молодые художники Крамской, Репин, Антокольский. Сильное впечатление на Репина произвела проповедь во славу наивной искренности Джотто и Чимабуэ.
— Ведь вот, вот что нужно! — восклицал Николай Николаевич. — Вся наша блестящая техника, знания — все это отвалится, как ненужная мишура. Нужен этот дух, эта выразительность главной сути картины, то, что называется вдохновением! Мы заблуждаемся в нашей специальности, нам надо начинать снова!
Создание независимого Товарищества передвижных выставок чрезвычайно воодушевило Ге. Он стал одним из его учредителей, членом правления. На первую экспозицию товарищества Ге поставил холст «Петр Первый и царевич Алексей». Вновь, как в «Тайной вечере», волнующая тема измены, противоборства идей и психологий. Вновь добротная внятная живопись: драма исторического семейного допроса в Петергофе выписана с тщанием любимых царем Петром голландцев. Вновь абсолютная победа — восторг, овации со всех сторон, в рецензиях «Ге решительно царит на выставке». Успех и слава пуще прежнего. А затем… Затем неуемный Николай Ге опять пытается опровергать дряхлую методу, убеждать, что искусству нужны лишь высота мысли и сила воображения. Холсты его передвижники на свои выставки берут, но кисло. Публика холодна, критика равнодушна. Даже заказчиков на портреты (а Ге из демократичных убеждений назначал цены очень низкие) почти не находится. Ползут слухи о том, что Ге вконец разучился писать.
В середине 1870-х Николай Ге покидает Санкт-Петербург. Уезжает с семьей на Черниговщину, поселяется на купленном у тестя хуторе. Ничего он больше не хочет, в искусство не верит, картин не пишет.
— Неужели здесь вас не тянет к живописи, Николай Николаевич? — удивлялся навестивший хуторянина Ге Репин.
— Нет, да и ни к чему; нам теперь искусство совсем не нужно. У нас вся культура еще на такой низкой ступени… Какое тут еще искусство!
Но раздается громовой глас Льва Толстого «В чем моя вера?», «Так что же нам делать?» — и Николай Ге, оставив уныние, возрождается. «Все стало мне ясно, — пишет Ге. — Искусство потонуло в том, что выше его, несоизмеримо». Прояснилось значение и назначение искусства — «только через высокое содержание можно найти и дать совершенную форму»… При встрече с Толстым объятия, радостные слезы. Отныне они братья и соратники. На передвижную выставку 1890 года Ге привозит картину «Что есть истина? Христос и Пилат». Товарищи рады снова видеть черниговского отшельника. Картина, где в противовес не только сытому циничному военачальнику, а всем «ложным, поповским» благостным образам Иисуса художник изобразил Христа исхудавшим, взлохмаченным, дочерна загоревшим нищим проповедником, вызывает недоумение. Государь Александр III перед холстом роняет: «Какой же это Христос? Это больной Миклухо-Маклай». Суворин в «Новом времени» глумится, рассказывая о детишках, которые про этого Христа на снимке в каталоге спрашивали: «Папа, это черт?» Зато радикальная молодежь в восхищении, хотя не от живописи, до которой ей дела нет; молодых будоражит политическая острота: официально картина запрещена к публичному показу. Но что теперь художнику гонения, непонимание, когда Лев Николаевич Толстой заявляет, что ему лично Николай Ге среди прочих живописцев «все равно что Монблан перед муравьиными кочками». Одного Толстой (да, видимо, и сам Ге в пылу толстовства) не замечает: напрочь отвергая всякие внешние ухищрения искусства, толкует-то живописец Ге все время о своей новой — «живой» — форме.
Коллеги дипломатично рекомендуют художнику «прибавить работы с натуры», так как «реализм формы нынче обязателен, глаза привыкли», а он будто нарочно утрирует рисунок, швыряет краску на холст резкими импульсивными мазками. Для следующей выставки Николай Ге привозит холст «Совесть (Иуда)», произведение, что создано «подъемом озаряющей минуты». Оценка подозрительного к броским фокусам Чистякова — «выдумано и кое-как напачкано». И даже искренне расположенный к Николаю Николаевичу, вообще весьма благожелательный Поленов сообщает жене: «Очень и очень слабая вещь. На черно-синем фоне стоит длинная и мягкая тумба, завернутая в простыню и освещенная голубым светом, вроде бенгальского огня, а направо, вдали, какие-то желтенькие и серенькие мазочки. Это уводят Христа. Ужасно жаль, что так плохо, потому что Ге очень хороший человек».