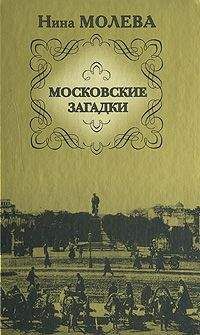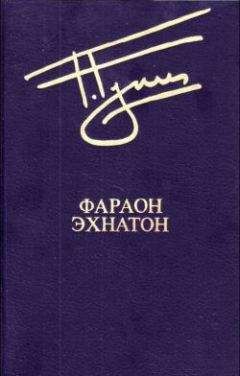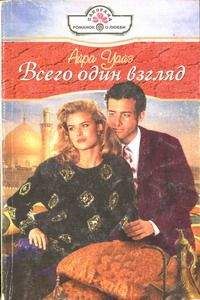Нина Молева - Баланс столетия
28 ноября состоялось третье и последнее заседание Коминформбюро, на котором была принята резолюция, осуждающая Югославию: «Югославская партия во власти убийц и шпионов».
Идеологи не скрывали: историю необходимо исправлять, еще лучше — переписывать заново. В университетской учебной программе о таком явлении, как французский импрессионизм, даже не упоминалось — развитие искусства прекращалось на барбизонцах. Все, что происходило в позднейший период, характеризовалось как декадентство и разлагающаяся культура Запада.
Не упоминались и русские коллекционеры, по существу открывшие новое искусство. Никто не вспоминал о превосходных музейных собраниях, закрывшихся, в частности, в связи с началом Отечественной войны и не имевших шансов на восстановление. Московский государственный музей изобразительных искусств в них не нуждался. Его руководство вполне удовлетворяли скрытые в подвалах сокровища Дрезденской галереи — утверждалось, что никто не знал о ее местонахождении. Даже участвовавшая в вывозе собрания в недалеком прошлом офицер госбезопасности, в будущем директор ГМИИ Ирина Антонова.
Тем неожиданнее выглядела открывшаяся в самый разгар ждановщины в одном из павильонов московского Центрального парка культуры и отдыха имени Горького выставка Фелициана Коварского и Ксаверия Дуниковского. Правда, в преддверии зимы парк не привлекал посетителей, а пресса умолчала об этом событии. Зрителей в павильоне «отверженных» было мало, а профессионалы-художники, за редким исключением, воздержались от посещения: зачем дразнить власти?
Тех же, кто пришел на выставку, полотна Коварского ошеломили: это была полная противоположность тому, что внедрял соцреализм. Самый волнующий и романтический холст художника — тающий в светящемся небе силуэт Дон Кихота и девиз: «Действовать только по убеждению!»
«Что бы обо мне ни говорили, одно можно сказать наверняка, что всю свою жизнь я испытывал упоение искусством и еще чувство какой-то тоски, которое вызывалось вечной потребностью поисков на земле». Эти слова Фелициана Коварского приведет после его смерти в письме Белютину патриарх современного польского искусства Хенрик Стажевский.
…В холодном павильоне двое. Он и она. Оба окоченевшие, но не отрывающиеся от полотен. В ходе разговора неожиданно обнаружилась общность взглядов и жизненной позиции: никому не дано права мне приказывать!
В густеющий сумрак пустынной аллеи вышли будущие супруги Белютины.
NB
1950 год. 30 мая. Из дневника М. М. Пришвина.
«То, что совершается у нас, нельзя приписывать Сталину, Энгельсу, или кому-то из нас, или всем нам. Вирусы мозга покойного Маркса, конечно, имели какое-то начальное влияние, но что после того, то все это сделал сам народ, создавший Аракчеева и Петра I. Наша государственность устанавливается дубинкой Петра…
Так вирус свободы простого человека, рабочего, в огненном горниле жизни обернулся в вирус необходимости. Вот мы и ждем теперь, погруженные в землю, своего выхода на свет, как ждет семя (не умрешь — не воскреснешь). По правде, мы только так и можем защищать свой марксизм: как заслуженное наказание и как бич Божий на Европу…
Но с каких же позиций можно защищать Петрову дубинку? Единственно с тех же самых позиций, с которых в древности евреи преклонялись перед могуществом своего Иеговы. И в царские времена мы — перед царем, как Помазанником Божьим. Имена всех этих позиций в наше время отброшены, и какими же словами оправдать миллион рабов, заключенных в лагеря и строящих орудия производства социалистического строя».
24 июня Особое совещание при министре Государственной безопасности СССР приговорило 20 членов Коммунистической партии молодежи города Воронежа к заключению в исправительно-трудовом лагере сроком от двух до десяти лет, за недоносительство были осуждены трое. Осужденным вменялось в вину, что они «являлись участниками нелегальной антисоветской организации, ставившей своей целью захват политической власти в СССР путем двурушнического проникновения на руководящие должности в ВЛКСМ и ВКП(б) и вытеснения оттуда старых руководящих кадров».
* * *Записка Анны Бовшек была отчаянной: «Дорогая моя девочка, больше невозможно. Приезжай на Арбат как только сможешь. ЕГО надо перевезти ко мне. Надо! Иначе будет поздно. Но мои доводы бесполезны. Может, твои и Васины помогут. Пожалуйста!»
Тетя Нюся была права. Все наши усилия устроить быт дяди Сигизмунда шли прахом. Продукты и блюда, которые мы привозили ему на Арбат, растаскивали соседи. Чем дольше дядя Сигизмунд болел, тем меньше оставалось в его комнате самых необходимых вещей. В полузабытьи он видел какие-то неясные тени, открывающуюся дверь, угадывал шаги. И не мог пошевелиться — гипертония…
Врач смущенно пожимал плечами. Добиться улучшения не удавалось. Доктора из привилегированной поликлиники Литературного фонда вообще оставались безучастными. У них было полно работы со знаменитостями, настоящими советскими звездами, а тут — «полное зеро», по выражению самого дяди. «Вычеркнут из всех памятей, из всех глаз», — повторял он.
Как ни боялся дядя Сигизмунд быть в тягость другим, переехать к жене все-таки пришлось. В непривычной обстановке писать не хотелось: «мысли развлекались». Не отвлекались, а развлекались, не складывались в образы и ассоциативные ряды. Он несколько раз раздраженно говорил, что в комнате слишком чисто и прибрано, поэтому в мыслях сумбур и сумятица: «они не на месте».
Спорить было бесполезно. Отвлекать газетами и журналами тем более. После обвала постановлений Кржижановский не брал их в руки. Разве что старые. Дядя Володя предложил заняться переводами, и вскоре около тахты появились книги Жеромского, Мицкевича, сборник рассказов польских классиков. Была закончена монография о Фредро. На все были уже заключены договоры — несбыточная мечта в отношении собственных сочинений. В записной книжке появились строки: «1. О жизни думать уже поздно, пора обдумывать свою гибель. 2. Жизнь допета и допита. 3. Близится станция назначения — Смерть. Пора укладывать мысли. 4. Надо сдать свою жизнь, как часовой сдает свой пост». Он не знал только, что поезд уже прибывает на станцию назначения.
Прошло меньше полугода. 1 мая 1950-го в теплый, наполненный солнцем и легким ветром день исчезли буквы. Перед глазами. Он оставался тем же Кржижановским, просто в мозгу парализовался участок, хранивший алфавит. Он мог писать, но не был в состоянии что-либо прочесть. Пятый том Мицкевича ждал правки…
Он не признавался в своем отчаянии. На вопрос жены: «Хотите ли вы жить?» (они всю жизнь старомодно обращались друг к другу на «вы») — ответил почти равнодушно: «Не знаю. Скорее нет, чем да. Если б это не было так плохо, я бы сказал, что душа у меня надорвалась».
Дядя Сигизмунд умер в канун нового 1951 года. Стояли тридцатиградусные морозы. На кладбище тетя Нюся сказала: «Так хоронили его деда Фабиана. На Медвежьей горе». — «На Медвежьей? Мы же там были!» — «Потому и заходили на кладбище. Под соснами. Тебе не сказали — ты же все равно узнала, только позже».
NB
1951 год. 4 апреля. Из дневника М. М. Пришвина.
«Я, как писатель, держусь в Советском Союзе на демонстрации прав ребенка в отношении радости жизни и естественного чувства бессмертия. А „партия“ — это старшие, это как УЧИТЕЛЯ в школе с их правами стариков, которых мы должны СЛУШАТЬСЯ. Творения этих старших есть наш прежний Закон Божий, жизнь их — наша прежняя Голгофа, их гипертония — наше распятие.
Коммунизм содержит в себе новый путь отношения настоящего (хочется) к будущему (надо). Он движется демонстрацией „хочется“ и укрыванием „надо“ (например, заключенные в лагерях).
Путь от „хочется“ до „надо“ — это ДОРОГА священных животных к могиле фараона, и весь этот путь египетского „хочется“ и „надо“ получает ФОРМУ ПИРАМИДЫ…
Коммунизм питается АВАНСОМ прав детства, тая от общего глаза свою „правду“ („надо“, смерть и т. п.).
„Правда“ коммунизма похожа на трухлявый пень, обрастающий цветами, закрывающими пень-правду или саркофаг фараона».
1952 год. Комбриг П. П. Власов (Владимиров) должен был уехать в Бирму, куда получил назначение послом. Берия пригласил его к себе в кабинет и предложил тут же сделать противораковый укол. «Можете себе представить, прививка от рака в пятидесятых годах! — рассказывал его сын Юрий Власов, неоднократный чемпион мира по тяжелой атлетике. — Берия знал, что отец страдал болезнью желудка и боится рака. Отец вернулся домой со вздувшейся рукой. Дома все сразу всё поняли. Так Берия отомстил за отказ сотрудничать с его ведомством — эта история имела давние корни…
Спустя несколько месяцев отца перевезли в госпиталь с тяжелым горловым кровотечением. Скончался он, по официальному заключению, от саркомы легких… Отец перед смертью многое мне рассказывал: он опасался, что его уберут, скомпрометировав, поэтому он хотел, чтобы я знал суть дела, ради которого он жил… как военный разведчик, возглавлявший нашу группу, работавшую в Яньани с мая 1942 года».