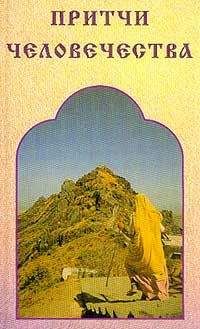Галина Леонтьева - Карл Брюллов
Начав работать маслом, Брюллов обычно писал быстро, с напором и горячностью. Молча сидел перед мольбертом, иногда сдвигая брови или отводя голову назад. В такие минуты в мастерской устанавливалась торжественная тишина. Все, затаив дыхание, следили, как осторожно и вместе твердо касается он кистью холста, и как безжизненный холст с каждым касанием оживает. Это было похоже на чудо. Это были незабываемые уроки, преподанные виртуозом. Нетрудно себе представить, с каким чувством слушали молодые люди, как учитель говорил: «Как весело начинать большую картину! Вы не испытали еще этого, не знаете, как при этом расширяется грудь от задержанного дыхания». Обещание ни с чем не сравнимого счастья творчества звучало в словах учителя.
Он любил беседовать с учениками перед своей работой, объясняя «как эстетическую, так и техническую сторону живописи». «И веришь, бывало, свято его словам, они были согласны с его мастерской кистью», — записывал после очередного урока Мокрицкий. Брюллов не только работал на глазах учеников, не только объяснял им те или иные технические приемы. Он давал им касаться своих холстов — Мокрицкому поручил строить перспективу в портрете Салтыковой, Горицкий получил лестное и ответственное поручение — дописать руку в портрете Крылова. И это тоже было своеобразным педагогическим приемом, рождавшим в ученике чувство высокой ответственности, волнующее переживание сотворчества. Многие из них делали копии с произведений учителя при его наблюдении и с его помощью, повторяя вслед за ним, мазок за мазком, весь творческий процесс. Иногда он сам позировал им, и тогда это был урок постижения характера, причем в данном случае сама «натура» подсказывала автору нужный изобразительный прием, а иногда, взяв из его рук кисть, одним легким движением, тем самым волшебным «чуть-чуть» возвращала портрету ускользнувшее было сходство.
Все они видели — он работает, не щадя себя. Порой забывая поесть. Отрываясь от мольберта, с осунувшимся, побледневшим лицом и горячечно блестящими глазами. Это самозабвенное творчество создавало вокруг Брюллова напряженное поле духовной жизни, заражало, увлекало, покоряло молодых людей: «Взгляд каждого из нас светлел и желание создавать теснило грудь…» Поэтому-то его бесконечные наставления в пользу каждодневного труда получали такую силу — они подтверждались силой его собственного примера. «Не упускайте ни одного дня, не приучая руку к послушанию. Делайте с карандашом то же, что делают настоящие артисты со смычком, с голосом — тогда только можно сделаться вполне художником», — это он повторял всегда, всем вместе и каждому в отдельности. Говорил, как труден путь художника: он должен садиться за работу с восходом солнца; что надо рисовать с младенческих лет, что нелегко начинать приобретать механизм искусства, когда живая женщина уже нравится более, нежели Венера Медицейская… Но и одним «механизмом», как ни безупречно им владей, не достигнешь высот истинного искусства. Нужно вложить в работу собственное сердце, чтобы она ожила. Глядя, как Брюллов работает до полного изнеможения, ученики понимали — «родить живую голову на мертвом полотне нелегко. То, над чем природа так долго трудилась в таинственной своей лаборатории, он изобразил вам простыми безжизненными красками, и в несколько минут влил, так сказать, душу за счет собственной жизни».
Советы Брюллова, уроки Брюллова, наставления Брюллова, его горячие речи о высоком призвании художника не оставались лишь в стенах его мастерской. Они бережно передавались от одного к другому, «как драгоценность». После смерти Брюллова Ге будет вместе с другими учениками, не заставшими Брюллова, ловить каждое слово натурщиков Брюллова — Тараса из Ярославской губернии и Василия из Вологодской. Ге вспоминает, как однажды Тарас рассказывал сгрудившимся вокруг него, словно вокруг профессора, студентам, о том, как он позировал Брюллову для «Распятия»: «Карл Павлович позвал меня и велит стать. Ну, я, разумеется, стал, как следует. Ведь Карл Павлович, понимаете? В полчаса готов торс в два тона. Я и спрашиваю: „Зачем в два тона, а не красками?“ — „Для картины, говорит, это главное. Тон ведь картины свой, а не тот, что здесь, а движение и верный рисунок в полчаса дай бог схватить“. Этот рассказ натурщика Ге заканчивает таким восклицанием: „Верно, верно ведь, а мы этого не знали, и мучились, мучились, все хочешь поймать, все разом, а ничего не поймаешь“. Брюллова тогда уже не было в живых, а его наставления, переданные не сильным в грамоте натурщиком, все еще имели больше силы и авторитета у студентов, чем советы иного ныне здравствующего академического профессора…
Что уж говорить о тех временах, когда каждое новое слово Брюллова, сказанное сегодня в кругу учеников, назавтра облетало всю Академию. И с этим не могли не считаться другие профессора. Глубоко прав Рамазанов, считавший, что влияние Брюллова вовсе не ограничилось натурным классом: „Живопись, не только историческая, портретная, но и ландшафтная, и перспективная, и акварельная воскресли и одушевились с его появлением; он сам дал всему живые образцы в своих картинах и рисунках, и тем решительно уничтожил бывшую до него условную, принятую живопись, от которой до него отступали очень немногие“.
Как-то однажды в мастерской при большом стечении народа зашла речь о том, чего же более, пользы или вреда, принесли искусству академии всех стран мира, в том числе и петербургская. Мнения звучали самые разноречивые. Когда доводы горячих спорщиков исчерпались, все, не сговариваясь, обернулись к Брюллову — что-то он скажет по этому поводу. Что касается Академии отечественной, то Брюллов всегда проводил резкую черту между ее дореформенною и нынешней сутью: о первой говорил с любовью, зато ту Академию, которую „создал“ своими преобразованиями Николай Павлович, считал „заведением, почти бесполезным…“ На возникший тогда в споре общий вопрос он начал свой ответ тоже с вопроса: „Что вы разумеете под словом „Академия““… — обратился Брюллов к присутствующим, — какое же частное лицо может дать молодому человеку такие средства изучать искусства, какими располагают правительства? Дело только в том, что там, где найдется талантливый человек, способный увлекать молодежь и руководить ею, там же независимо от правительства Академия непременно существует; а где такого художника нет, там все правительственные академии превращаются в сборища чиновников, которые приносят искусству не столько пользы, сколько вреда». Сам Брюллов и был как раз тем самым «талантливым человеком, способным увлекать молодежь», вокруг которого непременно образуется «своя» академия…
Учеников за Брюлловым числилось много. А еще больше было таких, кто, всего лишь пользуясь его советами дежурного профессора по рисовальному классу, с гордостью называл себя его учениками. Понятно, что Брюллов не мог нести ответственности за столь великое множество молодых людей — только в 1845/46 году правом на посещение рисовального класса пользовались сто пятьдесят человек! Были и такие, кто, напротив, не поспел быть ни на одном уроке Брюллова, не мог, следовательно, считать себя его учеником, но и в учении своем, и в творчестве, особенно в самом его начале, испытал сильнейшее благотворное воздействие и личности, и творчества, и новаторских педагогических установок Брюллова — сюда можно отнести и Николая Ге, и Илью Репина, который восхищался мастерством Брюллова-портретиста, высоко ценил ясность изобразительных форм, который не только утверждал ценность брюлловского наследия для русской культуры, но и в определенной мере наследовал его педагогической системе. Были среди учеников самые близкие — Мокрицкий, Шевченко, Горецкий, Железнов. Некоторые жили вместе с учителем. Временами он не пускал к себе никого из публики, бывало, что в болезни отстранялся даже от близких знакомых. Но ученики могли приходить во всякое время. Все, кто учился у Брюллова, вспоминают о нем не только с благодарностью, а и с восторгом. Шевченко в повести «Художник» именует его не иначе, как великий Карл. Железнов не раз называет учителя гением. При такой неуемной восторженности можно было бы с некоторой осторожностью отнестись и к ученическим дифирамбам Брюллову-профессору. Но и сторонний наблюдатель, Солнцев, пишущий о Брюллове весьма сдержанно, свидетельствует, с каким вниманием рассматривал он работы учеников, какие дельные советы давал им и «все объяснял с любовью. Вообще скажу, что Брюллов был великолепный профессор…» Уча, он давал щедро, широко. Уча овладевать механизмом искусства, учил мыслить. Дальнейшее зависело от берущих — от учеников. Не все, далеко не все были в силах воспринять уроки Брюллова во всей глубине и со всею серьезностью. И не вина Брюллова, что немногие умели взять все из этих дающих рук, а иные и взять, быть может, сумели, да не смогли удержать полученные знания… Старая истина — подражать, идти за учителем по проторенной им широкой дороге куда легче, чем отыскивать свой единственный путь. Разве вина Брюллова в том, что многие из его учеников всю жизнь потом держались за его приемы, не развивали, а скорее консервировали его традиции? Ф. Моллер и П. Орлов, Г. Михайлов и О. Тимашевский, Я. Капков и П. Шамшин без особых рассуждений перенимали не только приемы, но иногда даже сюжеты учителя. Сколько красивеньких, нарядненьких итальянок появилось тогда, сколько сценок на темы итальянского быта! Брюллов во имя повышенной эмоциональности допускал усиленное цветовое звучание. Ученики, воспользовавшись этим «допуском» по-своему, создали условную палитру ярких, часто несгармонированных тонов, которая по нелепой случайности получила название «брюлловской». В их работах человеческий образ делался плоской схемой, лишенной глубины внутреннего мира. Зато натуралистические подробности бесконечно множились. Брюлловское стремление к идеалу оборачивалось пустой идеализацией и салонной красивостью. Некоторые за поверхностной красивостью забывали даже о правде простой анатомии, утрачивали конструктивность, исчезавшую под заглаженной, отполированной поверхностью. Все главнейшие наставления Брюллова эти ученики, вернее — эпигоны, растеряли: от его категорического «не обезьяньте меня» до требования «натуральности и правды». Да и «обезьянили» они его плохо, в работах некоторых чувствовалась скорее оглядка на Неффа, чем на Брюллова. Один из современников писал об этом придворном живописце Николая I: «…Нефф давно, давно уже хлопочет в профессора Академии и на квартиру Бруни, но ему не удается, а то он мог бы быть вреден учащимся, а по умению рисовать был бы смешной профессор. И этот неважный артист в чести у нашей знати!» Что-то почти трагическое для русского искусства и для судьбы брюлловского наследия, судьбы его педагогических свершений было в том, что этот не умеющий рисовать «смешной профессор» занял в Академии место Брюллова… Вместо великого Карла — бездарный салонный угодник. Нефф был придворным художником с постоянным окладом в три тысячи в год. Профессорское звание царь ему дал за росписи Исаакиевского собора, которые не меньше, чем его ню и красавицы в шелках, изобличают не только бездарность, но и малую умелость автора. Но Нефф с каждым годом делался в светских кругах все более модным. Это не могло не оказать воздействия на самых нестойких из числа художнической братии. Некоторые из прежних учеников Брюллова, слепо заимствуя его мотивы и приемы, стали щедро «сдабривать» их приемами салонного письма нового профессора. Они-то своими работами и вызвали к жизни термин «брюлловщина», хотя, пожалуй, этому явлению куда больше подошло бы определение «неффовщина»… В глазах И. Тургенева, Стасова, Лескова эта группа олицетворяла брюлловскую школу. Иначе, как печальным недоразумением, это трудно назвать: приписав довольно произвольно Брюллову школу, к тому же всю вину за промахи художников, в нее включенных, переложили на плечи Брюллова. Считая одного его ответственным за «школу», стали искать первопричину «брюлловщины» в самом творчестве Брюллова, развенчивая заодно вчерашнего первого живописца России. В пылу полемического задора забылось все — его мастерство, его слава, его ценный вклад в педагогическую систему. Правда, далеко не все и тогда, в 1860–1870-х годах, оказались столь несправедливы. Сомов писал в защиту памяти Брюллова: «Самое направление, основанное Брюлловым, вскоре сменилось другим, более живым, народным, которое, однако, не возникло бы, может статься, еще долго, если бы автор „Помпеи“ не прорвал плотину академической условности, не научил русских живописцев свободной технике и не внушил им изучать действительность». С течением времени становилось все более ясно: Федотов, Агин, Шевченко — вот мастера, которым было по плечу постичь новизну и глубину брюлловских уроков, которые, питая свое мастерство его наставлениями, пошли дальше учителя. Но именно он снарядил их в путь, именно он сообщил им инерцию движения по единственно верному для русского искусства пути. Они оказались теми из его учеников, которые сумели взять все, что учитель мог им дать, которые, следуя его завету мучиться и любить, вкладывать собственное сердце в свое творение, обогатили русскую культуру поистине бессмертными произведениями. Их вдохновлял пример учителя. «Перед его дивными произведениями я задумывался и лелеял в своем сердце кобзаря и своих кровожадных гайдамаков», — признавался Шевченко, а для Федотова личность Брюллова так много значила, что он не только признавал его единственным своим учителем, но неизменно мысленно советовался с ним, так что, случалось, Брюллов являлся ему в сновидениях. «Знаешь ли, кто мне открыл секрет этой краски? — рассказывал он однажды своему другу П. Лебедеву. — Карл Павлович Брюллов — я видел его во сне… и он мне подробно рассказал, какую краску надобно употребить для подобного освещения…»