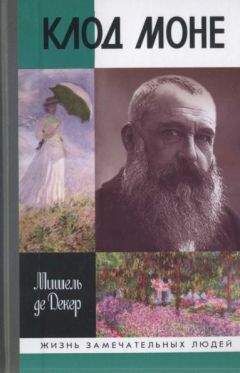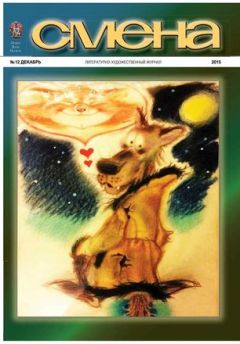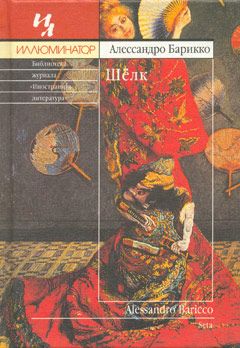Ольга Петрочук - Сандро Боттичелли
Герои Мазаччо твердо стоят на ногах и движутся во фресковом пространстве с невиданной ранее естественностью и свободой, поскольку глубина пейзажа сознательно подчеркнута перспективой и мощно вылепленным объемом самих фигур. Воссозданные воображением несравненного мастера «первосущественного» образы апостолов остались свидетельством не только овладения видимым миром, но и начала познания тайного мира сокровенных человеческих побуждений. Не напрасно капелла Бранкаччи становится школой для всех последующих живописцев, не исключая Сандро Боттичелли.
Когда Мазаччо постигла преждевременная смерть на двадцать седьмом году жизни, поэты сравнивали его с погасшим солнцем, вслед за которым и звезды уже не сумеют светить. Заодно с юным гением отпевали и живопись:
«Так, поразив одного, Апеллес поразил неисчетных…
С этим погибшим, увы! Гибнет прекрасное все».
Звезды, однако, не вовсе погасли, а лишь раздробили свое сияние, распространяя свои лучи более вширь, нежели в глубину. Последующие художники, переняв у Мазаччо, развивали отдельные стороны живого его многогранного мира. Андреа дель Кастаньо — страстную выразительность образов, Антонио Поллайоло — остроту формы и композиции, фра Анджелико — одухотворенную поэзию. Но Боттичелли сильнее всего привлекала в Мазаччо не эпическая его сторона, а зачатки психологической глубины, которую обошли в нем другие.
Очень возможно, что Сандро, родившийся пятнадцать лет спустя после смерти Мазаччо, присутствовал на похоронах значительно пережившего его сверстника Донателло. Возможно также, что еще раньше ученик фра Филиппо видел работу скульптора над бронзовыми рельефами, изображающими трагические сцены Распятия. В них беспокойный бег тонкоструящихся линий чем-то напоминал нервную вязь декоративных орнаментов ювелира, но получал трактовку сугубо психологическую. Боттичелли запомнит для будущей живописи эти линии, начертанные словно бы не резцом, а светом. Воистину «железными» должны были быть руки ваятеля, удержавшие в строгих и связанных между собою границах выплеснутые в мир хаотические волны исполненных скорби и страсти движений.
Великий Донателло в необычайной широте своего скульптурного диапазона поднял из небытия множество стилей — от величавого спокойствия почти античного своего «Благовещения», от возвышенной красоты «Святого Георгия» и «Юдифи» до потрясающих душу неприкрашенным реализмом «Марии Магдалины» или Аввакума — «Цукконе», которым обычно он клялся вместо имени господа бога. С оживляющей мощью, достойной мифического Пигмалиона, он увлеченно воскресил перед миром не прекрасную Галатею, а одухотворенно-уродливого старца с умной тыквообразной головой, сам загипнотизированно повторяя при этом: «Говори же, говори, чтоб ты лопнул!» В подобных типах, демократически грубых, возвышенная проповедь республиканских идеалов, которым скульптор был весьма привержен, сочеталась с раскрытием сугубо индивидуальных черт. И во всех его творениях ощущалась постоянная духовная жажда, бьющая ключом жизненная энергия — от декоративного буйства игриво хохочущих, резво танцующих младенцев — нутти, украшающих собою церковную кафедру в Прато, до экспрессивного динамизма поздних оплакиваний Христа, словно предваряющих трагические сдвиги искусства будущих кризисных эпох. Подобно наследию Мазаччо, из бездонного многообразия Донателло каждый черпает то, что ему ближе. Его ученик Микелоццо, помогавший Гиберти в создании знаменитых «райских» дверей, счастливо соединивший в себе таланты ваятеля и зодчего, положил начало чисто ренессансному типу надгробных памятников. Надгробие Леонардо Бруни, возведенное в Санта Кроче в год рождения Боттичелли, вместо средневековой покорности смерти запечатлело стойкость противостояния выдающегося гуманиста. А по соседству с его величавой портретной строгостью обаятельный Дезидерио Сеттиньяно культивировал в том же жанре виртуозную обработку мрамора, украшая другую гробницу фигурами нежных ангелов. Этот рано умерший тончайший лирик оставил Флоренции множество поэтически обобщенных детских и девичьих изображений, словно окутанных задумчивой дымкой.
Антонио, младший брат выдающегося архитектора Бернардо Росселлино, наряду с очень мужественными портретами в манере сурового реализма, из которых особенно известен бюст гуманиста Маттео Пальмиери, отдал дань и интимной прелести в целой серии весьма изящных рельефов с Мадоннами, не уступающих в дымчатой живописности Дезидерио. И незаурядный зодчий, ставший в скульптуре последователем Антонио Росселлино, — Бенедетто да Майано, проявив себя чутким декоратором в рельефах кафедры Санта Кроче, также отличается даром наблюдательного портретиста.
Так для Сандро Боттичелли рядом с гениальными догадками, смелыми попытками Донателло и Мазаччо заглянуть не только по эту, но и по ту сторону видимого мира пролегает область, принадлежащая промежуточной группе одаренных художников, по-своему разработавших откровения зачинателей кватроченто. Из живописцев это прежде всего неповторимый своей почти брутальною мощью Андреа дель Кастаньо, мастер вечно неспокойный, возбуждающий и возбудимый, чья разбойничьего типа физиономия давала щедрым на сенсации биографам вроде Вазари повод подозревать за ним черную совесть, обремененную грузом тайных преступлений. И в самом деле, почти насилием над восприятием зрителя видится мрачное мужество и неистовое напряжение его не признающей деликатности компромиссов, не знающей нежности полутонов почти жестокой манеры, как нельзя более подходящей для портретов вызывающе величественных полководцев или трагического реквиема «Снятия со креста».
Полной противоположностью этому воителю от живописи был нежно-мечтательный фра Анджелико, живописец-монах, укрывавшийся от мирских бурь в «райских садах» своей поэтической фантазии. Если в трактовке Кастаньо даже юношеские лица старообразны, настолько они искажены, потрясенные страстями до самого существа, то старцев фра Анджелико отличает от его юношей только наличие седых бород. В остальном это образы «человечества до грехопадения», царство невинности и вечно юной, безмятежной красоты. Однако «Снятие со креста» фра Анджелико, которое он, по свидетельству биографа, писал, так вживаясь в сюжет, что проливал то и дело слезы, удивляет отсутствием настоящего трагизма, в котором так силен Кастаньо. Для монаха-художника, до самой смерти сохранившего в себе частицы ребяческого неведения в способности видеть только хорошее, трагедия «истории» заранее перевоплотилась в праздник религии.
Но именно под влиянием этого поэта от живописи у питомца его фра Филиппо суровое величие героических образов Мазаччо, Донателло и Кастаньо сменяется подходом более жанровым и лирическим, утрачивает монументальность формы и более всего — цельность выражения высоких гражданских, общественных идеалов. Вместо этого — все большее погружение в интимность, все большее любование скромной поэзией быта. Фра Филиппо Липпи становится провозвестником и певцом «поэтического жанризма» в религиозной живописи.
Впрочем, аналитичный Верроккио был таким же учеником фра Анджелико, как Гоццоли и Липпи. Подобно Альберти и Брунеллески, его отличала разносторонность занятий и интересов — Андреа славился не только как живописец и скульптор, но и как выдающийся ювелир, геометр, музыкант. Не напрасно в то время у Верроккио если не учился, то часто собирался весь цвет флорентинского искусства. Когда художники Флоренции разделяются как бы на «лирическое» и «аналитическое» направления, Верроккио своей суховатой живописью во многом предвосхищает сугубо научный подход Леонардо да Винчи.
В обучении у Верроккио широко применялось копирование с рисунков и картонов богатой коллекции Медичи, где имелись работы Мазаччо, Учелло, фра Анджелико и Липпи. Со времени появления во Флоренции масляной живописи, введенной в 1449 г. нидерландцем Рогиром ван дер Вейденом, в боттеге Верроккио производятся постоянные эксперименты над новыми материалами, грунтами, лаками. Занимались у него и рисованием сложных драпировок, которые обычно бывали «срисованы с прилежанием» и «закончены с терпением». У Боттичелли, однако, было не слишком много прилежания для подобных кропотливых занятий с тщательным копированием малейшей складочки и еще меньше терпения, поскольку пылкое воображение его постоянно своевольничало, опережая натуру.
Рисунками с животных увлекался влюбленный во всякую живность обаятельный бедняк Паоло Учелло, за эту наклонность получивший свое прозвище, означающее «Птица». Декоративно розовые и голубые кони в знаменитых «Битвах» Учелло исполнены, при всей их сказочности, с полным знанием их анатомии и типичных повадок. В отличие от умиротворяющих сказок фра Анджелико и Беноццо Гоццоли Паоло Учелло показал себя сказочником беспокойным. Ночами с упорством и самозабвением подвижника он бредит, как о возлюбленной, о перспективе, уподобляя эту сухую материю какой-то волшебной грезе: «О, что за сладчайшая вещь перспектива!»