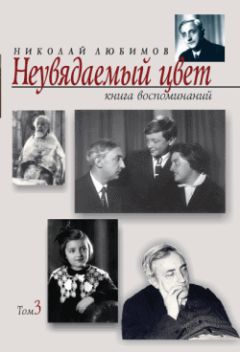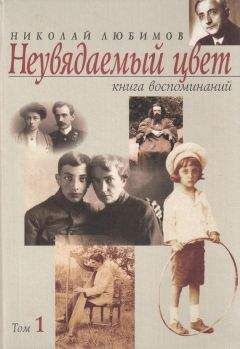Николай Любимов - Неувядаемый цвет: книга воспоминаний. Т. 3
При чтении «Рождественской Звезды» я пережил одно из тех редких потрясений, какие когда-либо вызывало у меня искусство слова.
Всякое истинное искусство традиционно и своеобычно, национально и всечеловечно, вечно в своей современности. Оно зарождается не в воздухе – оно вырастает на почве, сосет мочками корней соки земли, а затем уже принимает неповторимую окраску и разливает особое благоухание. Пастернак не одинок в своем стремлении внести психофизиологические черточки в облик действующих в Евангелии лиц, Пастернак не одинок и в показе чудесного, вспыхивающего среди обыденного, в дерзновенном смещении широт и долгот.
Так Чехов в рассказе «Студент» (в рассказе, который, по свидетельству Н. Н. Вильмонта, любил Пастернак), нимало не снижая, как сам автор выражается в финале, «высокого смысла» евангельских событий, вот уже сколько веков отзывающихся в мире своим незаглушимым гулом, а лишь приближая их к нашему взору, к нашим чувствам и ощущениям, угадывает увиденные им на многовековом расстоянии, казалось бы, мелкие, но такие важные, так много объясняющие в поведении апостола Петра черточки: «После вечери Иисус смертельно тосковал в саду и молился, а бедный Петр истомился душой, ослабел, веки у него отяжелели, и он никак не мог побороть сна. Потом… Иуда… поцеловал Иисуса и предал его мучителям. Его связанного вели к первосвященнику и били, а Петр, изнеможенный, замученный тоской и тревогой, понимаешь ли, не выспавшийся,[6] предчувствуя, что вот-вот на земле произойдет что-то ужасное, шел вслед… Он страстно, без памяти любил Иисуса и теперь видел издали, как его били…»
Так Бунин заставляет своих иконописцев из стихотворения «Новый храм» вспоминать детство Христа, «порог на солнце в Назарете, верстак и кубовый хитон».
Так тот же Бунин, описывая бегство святого семейства в Египет, замечает, что Божья Матерь запахнула младенца куньей шубкой.
Вот так и у Пастернака:
Доху отряхнув от постельной трухи
И зернышек проса,
Смотрели с утеса
Спросонья в полночную даль пастухи.
…………………………..
Вдали было поле в снегу и погост,
Ограды, надгробья,
Оглобля в сугробе,
И небо над кладбищем, полное звезд.
Звезда пламенеет, «как стог», «как отблеск поджога, как хутор в огне и пожар на гумне».
Она возвышалась горящей скирдой[7]
Соломы и сена
Средь целой вселенной,
Встревоженной этою новой звездой.
Налитая южной знойной синевой вифлеемская ночь оборачивается русской морозной ночью с обжигающим щеки ветром и шуршащими извивами поземки, ибо для русского мужика рождественская ночь не менее значительна, чем для вифлеемского пастуха или же ученого звездочета.
А жизнь вокруг идет своим чередом, жизнь будничная, привычная и все же пленительная этой своей неприглядностью:
Средь серой, как пепел, предутренней мглы
Топтались погонщики и овцеводы,
Ругались со всадниками пешеходы,
У выдолбленной водопойной колоды
Ревели верблюды, лягались ослы.
Но среди серой мглы еще ярче горит глядящая на Деву Звезда Рождества.
Это как на картине Чима де Конельяно «Введение Марии во храм». Жизнь повседневная продолжается: на ступенях храма расположились торговцы голубями, менялы и, наверно, зазывно и противно, визгливо орут, силясь перекричать друг друга, и по этой же лестнице идет скромная девочка-подросток, и что-то в этой девочке-подростке есть необычайное, предвещающее радость всему миру.
Создатель «Рождественской Звезды» не одинок, но единственен. «Рождественская Звезда» Пастернака – это не простой пересказ евангельского события, хотя бы и в прекрасных стихах, и не «рассуждение по поводу», хотя бы и исполненное глубокомыслия. Пастернак не размышляет о Божьем величии, подобно Ломоносову и Державину. Он пока еще, до стихотворения «В больнице», не выражает прямо своей благодарной любви к Богу, как выражает ее все тот же Бунин:
И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной…
Срок настанет – Господь сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»
И забуду я все – вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав —
И от сладостных слез не успею ответить,
К милосердным коленам припав.
Пастернак не выражает, подобно Бунину, своего ощущения Божества, присутствующего и во вне, и внутри самого поэта, – ощущения такой глубины и силы, что оно становится как бы уже и телесным:
А Бог был ясен, радостен и прост:
Он в ветре был, в моей душе бездомной —
И содрогался синим блеском звезд
В лазури неба, чистой и огромной.
Новизна «Рождественской Звезды» Пастернака – в живости, наглядности изображения хода мировой истории, борьбы «все злей и свирепей» дующего противохристианского ветра со светочем христианской веры. А дует он, кстати сказать, и в «Студенте» – «холодный, пронизывающий», «жестокий». Но светоч не гаснет. Он разгорается все сильней и сильней. По Пастернаку, он порождает всю гуманистическую культуру, все истинные радости, которым человечество доныне радуется и которыми оно животворится и светлеется, как поется в одном церковном песнопении– от сокровищ, скопленных в музеях, от книгохранилищ, где скоплены чудеса мысли и духа, от картинных галерей до висящих на рождественских елках золотых шаров, на которые таращит изумленно-восторженные глазенки детвора. И это изображение не разжижает ни единая капля мутной или напыщенно-бессильной риторики, ни единая капля антипоэтического «мудрования». Здесь все имеет свои очертанья, свой запах, свой цвет…
«Все почти гении искусства принадлежат христианству, – писал Гончаров. – Одно оно, поглотив древнюю цивилизацию и открыв человечеству бесконечную область духа, на фундаменте древней пластики воздвигло новые и вечные идеалы, к которым стремится и всегда будет стремиться человечество. Что ни делай разрушители, скептики, философы, но они не уничтожат в человечестве религии и с ней отрешения к идеалам, а чище и выше религии христианской – нет…» («„Христос в пустыне“. Картина г. Крамского»).
Словом, «Рождественская Звезда», хоть и воссиявшая на одном небосклоне с другими звездами русской христианской поэзии, все же не входит ни в одно звездное скопление, даже самое яркое. Она сияет обособленно, как и подобает Звезде Рождества. Это стихотворение богодухновенно, как богодухновенны стихи Лермонтова («Выхожу один я на дорогу…», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва», «Ангел», «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), как богодухновенны стихи Бунина, ибо богодухновенными могут быть не только сказания евангелистов, не только писания святых отцов, но и творения благих людей, хотя бы и «обремененных грехи многими», ибо и в них порой вселяется Дух Истины, очищает от всякой скверны и вещими их устами глаголет.
… Когда я прочел «Рождественскую Звезду», сидя в квартире у Замошкина, он высказал такую мысль: у Есенина, наверно, было предчувствие, что не жилец он на белом свете, – вот почему он немного поимажиниствовал, походил на голове – и скорей-скорей на большую дорогу русской поэзии. У Пастернака этого предчувствия не было, – вот почему он так долго позволял себе резвиться и кувыркаться через голову. А теперь настал конец его затянувшейся бездумной молодости…
«Рождественская Звезда» как взошла на поэтическое небо, так с тех пор и лучится на нем, а взошла она в ту самую пору, когда Россия была погружена не в предгрозовой, с прозорами, а в бессиянной густоты аспидный мрак довременного хаоса. Стихотворение скоро разошлось в списках по Москве и Ленинграду. Особенно об этом старалась пианистка, неугомонная Мария Вениаминовна Юдина, Качалов плакал, читая «Звезду», даже Фадеев знал ее наизусть. От самого Пастернака я слышал, что однажды вечером, когда у него сидели гости, ему позвонил Фадеев и сказал, что Бориса Леонидовича непременно хочет видеть только что приехавший из Чехословакии Незвал и что завтра можно организовать встречу в «Метрополе». Пастернак, будучи под хмельком, предъявил Фадееву ультиматум: или он сейчас привезет Незвала к нему домой, или встреча не состоится.
Фадеев было заартачился, но потом сдался и с Незвалом и кое с кем из своей свиты приехал к Пастернаку в Лаврушинский. Незвал стал просить хозяина почитать новые стихи. Пастернак, сделав вид, что не заметил умоляющих знаков Фадеева, начал читать. Когда же он прочел «Звезду», Незвал бросился душить Пастернака в объятиях.
Слухи о романе, над которым работает Пастернак, все ширились. Стало известно, что он читает главы и стихотворения из романа у своих знакомых. Я попросил Клавдию Николаевну Бугаеву замолвить за меня словечко, чтобы Пастернак пригласил меня на чтение, куда ему заблагорассудится. Пастернак обещал.
Вскоре после этого я встретил Пастернака на Тверской и, остановив его, обратился к нему с той же просьбой уже непосредственно, сославшись на свою дружбу с Клавдией Николаевной.