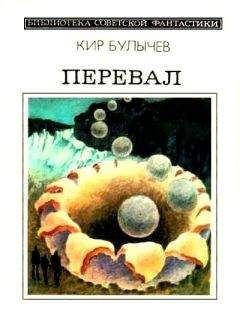Дора Коган - Врубель
Оттого что в романсе «Трепак», принадлежащем к циклу «Песни и пляски смерти», Мусоргский показывал смерть в звучаниях плясовой, которые были воплощением самого «разгула» жизни, жуткий гротесковый лик смерти становился еще ужаснее. Только в гравюрах старых мастеров была такая дерзкая игра со смертью и адскими силами. И теперь современный композитор позволял себе также вторгнуться в потустороннее. Казалось, он хотел доказать, что художник на все имеет право, что занятия музыкой — на последней черте между жизнью и смертью. Мало того — музыка в силах перейти эту черту. Он даже брал на себя смелость дать ответ на «последний», роковой вопрос… И как же безрадостен, трагичен был этот его ответ! Раскрывая ужас смерти, всевластность ее силы, в «Песнях и плясках смерти» Мусоргский с глубокой проникновенностью и беспощадной бескомпромиссностью утверждает — за порогом жизни ничего нет. Он показывает «вечность небытия» и «небытие вечности»…
И все человеческие страсти и переживания интересовали Мусоргского в их крайнем выражении и в неразрешимости, в антиномичности. Такой он показывал любовь.
Любовь — всепоглощающее и гибельное, искупаемое смертью чувство. Нельзя было не вспомнить здесь «Хованщину», Марфу, ее любовь — смертоносную страсть, ведущую к желанию смерти любимому и себе. «Смертный час твой пришел, милый мой, обойми меня в остатный раз, ты мне люб до гробовой доски, помереть с тобой — ровно сладко заснуть!» Только Достоевский и Мусоргский представляли такой любовь.
В музыке Мусоргского улавливались связи с той школой живописи, которая видела цель искусства, его специальное назначение в тесной связи с жизнью, с ее насущными вопросами. Не случайно Репин был другом композитора. Но в жизненности образов Мусоргского была некая чрезмерность. Вот в мелодии слышался гомон, шум толпы, мелькали какие-то острохарактерные лица, но отчетливость подчас была такой резкой, какая бывает только во сне, и такой же противоестественной.
Композитор играл снова и снова. Иногда он часами импровизировал. Впрочем, могло казаться, что он импровизировал всегда. При этом в его импровизациях было что-то беспокойное, ищущее. Мелодия не могла, да и не хотела окончательно завершиться, определиться в своем характере.
В этом отношении музыка была такой же, как сам Мусоргский, весь облик которого, а не только выражение лица, становился все время новым, незнакомым. Творец этой странной музыки наслаждался самим процессом формообразования, кристаллизации: он стремился снять всякую искусственность, даже искусность, представить в своей музыке сам поток жизни… Именно поэтому Мусоргскому были противны все эстетические явления, связанные с классикой, — он ненавидел искусство итальянского Ренессанса, включая Рафаэля, считая его «мертвенным».
И вместе с тем где-то в подтексте музыки композитора ощущался, казалось бы, неприемлемый им самим идеализм. Он был романтиком. Недаром он глубоко был связан с поэтом Голенищевым-Кутузовым и сочинял на его стихи музыку. На тексты поэта положен цикл «Песни и пляски смерти». Романтизм сказывался в музыке Мусоргского весьма разнообразно и всегда получал самобытное выражение. Примером может служить «Элегия» на слова того же Голенищева-Кутузова:
Мусоргский вполголоса запел:
«В тумане дремлет ночь,
Безмолвная звезда сквозь
Дымку облаков мерцает
Одиноко, звенят бубенцами
Уныло и далеко
Коней пасущихся стада…»
Вокальными данными он не обладал. Но это сейчас было неважно. Звуки и слова выступали в единстве и обладали удивительной изобразительностью. Звучания необычные, но исполненные элегического настроения. И в самом деле увиделось это пустынное небо, ночное поле, услышался тихий звон бубенцов…
Романс кончался:
«Предвестница звезда,
Как будто полная стыда,
Скрывает светлый лик
В тумане безотрадном,
Как будущность моя,
Немом и непроглядном…»
Тишина… мертвая тишина. Но вот Мусоргский опускал руки на клавиши, загорался ехидный огонек в глазах, слышался резкий Диссонирующий аккорд, заставляющий всех вздрогнуть, попирающий привычки слуха, нормы, издевающийся над настроением, в которое композитор только что повергал слушателей.
Однажды неожиданно в середине вечера, среди нескончаемых импровизаций и вдохновенной таперской игры, во время которой Мусоргский, по словам Врубеля, «разбивал рояль», вдруг неожиданно зазвучали знакомые слова, произнесенные речитативом, с теми почти ласковыми интонациями, которые обещали добрую сказку. «Жил-был король когда-то…» — начал он вкрадчиво, почти весело. Но нет, что-то колючее и недоброе, издевка: «…при нем блоха жила… Блоха-а-а, ха-ха-ха», — выбросил Мусоргский вызывающе громко. Врубель читал поэму Гете не один раз, изучал ее в гимназии, слушал оперу Гуно «Фауст» в театре, пытался иллюстрировать произведение, но никогда так зримо не представлял себе и самого Мефистофеля и ватагу подвыпивших студентов, сидящих в кабачке, никогда не воспринимал с такой остротой всю колючую и глубоко жизненную фантастику игривой песенки, исполненной сатаной — жителем преисподней, никогда не сталкивался с прямой сатирой в музыке. В ней было что-то гоголевское, и не случайно, рассказывали, Мусоргский писал музыку на комедию «Женитьба», а теперь вынашивал оперу «Сорочинская ярмарка». Эта фантастическая сценка была полна экспрессии, жизненной выразительности. Как в романсе «Трепак» представало инфернальное в житейской прозе, так теперь Мусоргский раскрывал низкую прозу, житейское — в инфернальном. Он непостижимым образом умел сочетать в своей музыке самое высокое и самое низкое… И какая жестокая сатира! Композитор выкрикнул: «Душить!» — и стало страшно от омерзения вместе с ним…
Врубель встречался с Мусоргским не только у Валуевых, но в одном из петербургских ресторанов, где бездомный музыкант проводил многие часы. На столе долго оставались следы торопливо нацарапанных им осенявших его музыкальных фраз. Постепенно хмелея, Мусоргский почти кричал: «Не музыки надо нам, не слов, не палитры и не резца — нет, черт бы вас побрал, притворщиков… — мысли живые подайте, живую беседу с людьми ведите, какой бы сюжет вы ни избрали для беседы с ними! Красивенькими звуками не обойдетесь. Искусство есть средство для беседы с людьми, а не цель…» Может ли искусство себе позволить такое: «Живую беседу с людьми ведите», а музыка как музыка, ради нее самой, — ничто!
Искусство, по Мусоргскому, — органическое и непроизвольное творчество. Мусоргский говорил с каждым и каждому, он открывал себя всего и того же требовал от другого, слушателя, — только от сердца к сердцу, от души к душе…
Можно ли реконструировать диалоги композитора и будущего художника? Выступал ли в них Врубель снова против Прудона за Лессинга? Главное — так ли горячо и убежденно рекомендовал себя как «защитника искусства для искусства»?
Что из музыкальной стихии Мусоргского мог воспринять тогда Врубель? Народность? Романтизм? Реализм? Или идеализм? Вспомним хотя бы самые первые шаги Врубеля на поприще художественном, его признание представителями обоих господствовавших тогда направлений в искусстве, а значит, и взаимно — его признание обоих этих направлений и в то же время стремление порвать и с тем и с другим.
И здесь возникают в памяти не столько первые, юношеские опыты Врубеля, но его поздние произведения, может быть — самые поздние. Его рисунки с филигранной, совершенной, отточенной формой и одновременно с их стихийной энергией, ломавшей традиционные опоры, с линией и формой, как бы рвущимися за пределы… Его постоянное стремление к предельной правде натуры и предельному, идеальному формальному совершенству. Может быть, всего важнее его новое, совершенно новое представление о красоте, нераздельной с диссонансностью, угловатостью, нуждающейся в них. И приверженность Врубеля к бесконечной, открытой, незавершенной форме и вместе с тем пафос устремленности вглубь, к первоосновам, к первоистокам. А в результате всего этого — достижение высшей правды «натурализма», оборачивающейся отвлеченностью. Здесь вспоминаются и человеческие черты характера Врубеля, его «флюгероватость», его боязнь всякой устойчивости и завершенности, его вычурность, рисовка… Да, конечно, при этом они были совсем разными — Мусоргский и Врубель. Но разве влияние, связь — это подобие?
Как бы то ни было, Мусоргский не мог не войти тогда в духовный мир Врубеля, не оставить следов в его сознании и своей музыкой и своей личностью. Не случайно Врубель причислял Мусоргского к своим любимым композиторам.
Но что самое важное, Мусоргский и Врубель — два светила, неизбежно появившихся на одном небе, одно подле другого, одно вслед за другим. И это постепенно будет становиться все более явным.