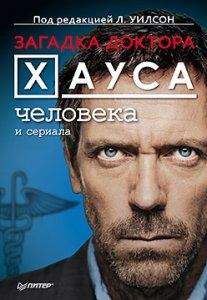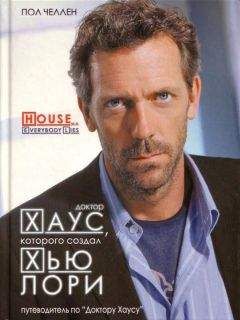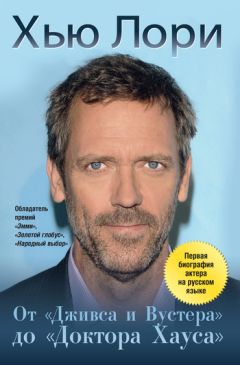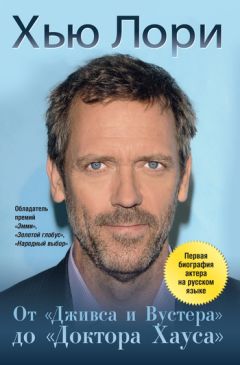Михаил Ромм - Кино в системе искусств
Иными словами, нота ее плача была настолько подлинна, что все остальные актеры не выдерживали соперничества. Пришлось снять ее и с этой сцены.
«…Не имея сил с нею расстаться, – продолжает Станиславский, – я придумал для нее специальную паузу, во время которой она одна проходила через сцену, мурлыча песенку и зовя кого-то вдали. Этот оклик старого слабого голоса давал такую ширь подлинной русской деревни, так врезался в память, что после нее никому нельзя было показаться на сцену». Пришлось снять старуху и с этого коротенького эпизода.
«Была сделана последняя попытка, – заканчивает Станиславский, – не выпускать ее, а лишь заставить петь за сценой. Но и это оказалось опасным для актеров».
Вдумайтесь в то, что рассказывает в этом отрывке гений театральной режиссуры: кусочек жизненной правды, вынесенной на сцену самого правдолюбивого из театров, так резко контрастировал с игрой самых правдивых в мире театральных актеров, что пришлось этот кусочек жизненной правды выбросить вон.
Между тем мы в кинематографе привлекаем типаж сплошь и рядом, а итальянцы поручают неактерам исполнение крупнейших, ответственнейших ролей (например, главные роли в картинах «Похитители велосипедов» или «Два гроша надежды»). Ни у нас, ни в Италии появление на экране подлинного человека не расходится с кинематографической манерой актерской работы, а, наоборот, обогащает картину.
Вот другой пример из той же книги Станиславского, может быть, еще более интересный.
Описывая гастроли театра в Киеве, Станиславский сообщает о восторженном приеме, о том, что беседы с многочисленными поклонниками часто продолжались далеко за полночь.
«Однажды, – пишет Станиславский, – такое ночное сборище происходило после спектакля в Городском киевском саду, на высоком берегу Днепра. После ужина мы всей компанией гуляли по берегу реки и пробрались в дворцовый парк. Там мы очутились в обстановке тургеневской эпохи, со старинными аллеями, боскетами. В одном из мест парка мы узнали нашу декорацию и планировку из второго акта тургеневской пьесы „Месяц в деревне“. Рядом с площадкой были точно заранее приготовленные места для зрителя; туда мы усадили всю гуляющую с нами компанию и начали импровизированный спектакль в живой природе. Подошел мой выход. Мы с О. Л. Книппер, как полагается по пьесе, пошли вдоль длинной аллеи, говоря свои реплики, потом сели на скамью по нашей привычной мизансцене, заговорили и… остановились, так как не были в силах продолжать. Моя игра в обстановке живой природы казалась мне ложью! (Курсив мой. – M. P.) A еще говорят, что мы довели простоту до натурализма! – продолжает Станиславский. – Как условно оказалось то, что мы привыкли делать на сцене!».
Между тем в любой кинематографической картине мы видим сцены, разыгранные на натуре: не только в парке, где аллеи и скамейки создавали как бы специально найденную площадку для мизансцены, но среди толпы, в метро, на тротуаре, на перроне вокзала – где угодно, в самой гуще жизни. И жизнь не только не противоречит актерской работе в кинематографе, но поддерживает, подкрепляет ее, делает ее еще более правдивой.
Великий искатель сценической правды, Станиславский с напряжением всех своих творческих и духовных сил вел театр к предельному для его времени сценическому реализму. Ошибаясь, преодолевая огромные трудности, он заложил основы нового театра. Но сам же он очень быстро почувствовал границу этого движения к реализму. Эту границу даже театр, руководимый Станиславским, не мог перейти. Но кинематограф с легкостью преодолел ее.
Каждое из искусств условно по-своему. Условность театра ничем не похожа на условность кинематографа. В театре мы легко воспринимаем, скажем, ясно видимый грим. В кинематографе даже намек на присутствие грима раздражает и оскорбляет зрителя.
Кинематографическое зрелище тоже условно, ибо всякое искусство условно. Но здесь предмет изображения – человек, жизнь, мир – ни в коем случае не имеет права на неточность, на подделку.
Человек с короткими, толстыми пальцами играет Мефистофеля. В театре он делает на руке черные линии, удлиняя себе пальцы. Если это будет замечено в кинематографе, то зритель испытает острейшее чувство обмана. Но если оператор снимет руку этого человека, скажем, широкоугольной оптикой, специально фотографически вытянув пальцы, и осветит ее таким образом, что пальцы станут еще длиннее, то такая условность в кинематографе закономерна.
Здание в кино должно быть настоящим, а ракурс, в котором оно взято, может быть совершенно невероятным. Человек должен быть настоящим, но освещен и снят он может быть в любой, самой условной манере.
При движении театра к реализму в изображении человеческой жизни одно из непреодолимых препятствий заключается в большом пространстве, лежащем между актером и зрителем, в отсутствии современных технических средств для того, чтобы побороть это пространство.
Любопытно проследить за мучительными поисками Станиславского, за его многочисленными попытками бороться с форсированной актерской работой. Скажем, появляется Первая студия МХАТ. Она работает в очень маленьком помещении. Актеры могут играть свободно, в меру подлинного чувства. Спектакли Первой студии в этом первоначальном маленьком помещении производят потрясающее впечатление. Казалось бы, Станиславский сделал решительный мощный шаг вперед.
Но вот студия переходит в большое театральное помещение и шаг вперед оказывается шагом в сторону: размеры зала разрушают все то, чего с таким трудом добился гениальнейший из театральных режиссеров.
Возникают Вторая, Третья, Четвертая студии; возникают многочисленные дочерние, сыновние театральные организмы и в Москве и в других городах. И повсюду происходит одно и то же: пока спектакль разыгрывается в камерной обстановке, почти без декораций, в малюсеньком зале, где сидят шестьдесят, сто, ну двести человек, работа студийцев производит ошеломляющее впечатление новаторства; как только окрепший организм переводится в нормальное театральное помещение, он начинает сдавать одну позицию за другой. Актеры начинают играть так же, как сотни и тысячи актеров других театров, – немного лучше или немного хуже.
Кинематографу совершенно незнакомы эти мучительные поиски. То, что для театра представляет самую трудную из задач, в кинематографе разрешается естественнейшим образом благодаря камере, панораме, крупному плану и микрофону.
Правда, и кинематограф идет к реализму не прямой дорогой; правда, и в кинематографе реалистические тенденции завоевывают все более прочные позиции с трудом, постепенно, шаг за шагом. Даже самая близкая подруга кинематографа – техника, – и та подчас отбрасывает нас назад. Так, например, вторжение в немой кинематограф звука на первых порах привело к потере многих высоких позиций, завоеванных немым кинематографом в последние годы своего существования. Кинематограф вместе со звуком принял целый ряд театральных условностей, и в том числе условность актера, играющего по-театральному, то есть технически подчеркнуто.
С тех пор прошло тридцать лет, но еще до сегодняшнего дня кинематограф борется с этим налетом театральщины; он постепенно восстанавливает подлинно кинематографическое поведение человека на экране – жизнь, а не изображение жизни, чувство, увиденное аппаратом, а не условное изображение чувства, целесообразное действие человека, а не театральное действо.
Возникновение цвета вновь на некоторое время снизило жизненную правду кинематографа. Анилиновая раскраска пленки придала кинематографическому зрелищу известную условность, неприятную подчас олеографичность. Но и с этой бедой мы боремся.
В своем трудном движении вперед кинематограф постепенно научился не только восстанавливать подобие жизни на экране, но исследовать жизнь, подобно тому как ее исследует хорошая литература. Недаром наиболее мощным из западных кинематографических течений за последние годы стал итальянский неореализм. Некоторые из итальянских картин поразительны своим глубоким, пристальным вниманием к человеку, к жизни вообще. Режиссер пользуется киноаппаратом как инструментом исследования и наблюдения. Это, например, полностью относится к такой картине, как «Похитители велосипедов» Витторио Де Сика. Впрочем, я не сомневаюсь, что через несколько лет кинематограф даст образчики еще более подробного, еще более точного и еще более глубокого исследования человеческой жизни.
Театр на это не способен, так как он технически примитивен. В конце концов можно усовершенствовать вращение сцены, можно улучшить осветительные приборы, сделать молниеносной смену декораций, однако все это не решает основного технического несовершенства: коробка сцены остается условной коробкой, и актер вынужден на глазах у тысячи зрителей открыто демонстрировать свои чувства, донося их до каждого из сидящих в театре усиленным, форсированным способом, располагая только собственным голосом и телом – тем, чем располагал актер и пятьсот, и тысячу, и две тысячи лет назад.