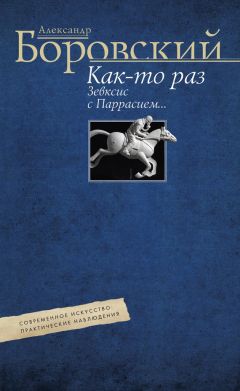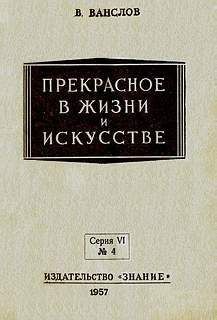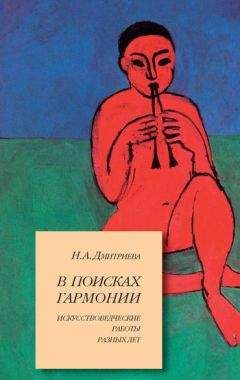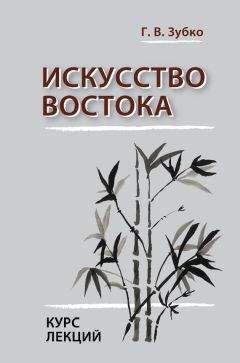Нина Дмитриева - В поисках гармонии. Искусствоведческие работы разных лет
Общение со старинным искусством имело для Врубеля еще одно важное последствие: оно облагородило его экспрессию, сделало ее возвышенной и строгой. Внутреннее состояние, даже предельно напряженное, выражается с благородной сдержанностью. Врубелевские герои никогда не жестикулируют, их позы статичны, движения рук сведены к неким лаконичным пластическим формулам: сжатые или поднесенные к сердцу руки апостолов в «Сошествии Святого Духа», повелевающая вытянутая рука шестикрылого серафима, руки, опущенные со сцепленными пальцами у сидящего Демона, стиснутая в кулак рука Мамонтова… Контраст между лаконизмом жеста и силой скрытого за ним переживания делает образы Врубеля особенно впечатляющими.
Подлинная стихия его картин – молчание, тишина, которую, кажется, можно слышать, как музыку. В молчание погружен его мир. Он изображает чувства, не выразимые словами, молчаливый поединок сердец, взглядов, глубокое раздумье, безмолвное духовное общение; мгновения, остановленные на том пределе, когда слова не нужны.
Все это есть и в «Сошествии Святого Духа», и особенно в эскизах «Надгробного плача» для киевского Владимирского собора. Они сохранились в четырех вариантах, во всех только две фигуры – Матери и мертвого Христа (в четвертом варианте введены еще фигуры ангелов по сторонам). Нет бурных проявлений горя – ни рыданий, ни заломленных рук, все сосредоточено в «выпуклом огромном взоре» Матери, обращенном к Сыну с немым вопросом о тайне смерти. Сильнее всего это выражено во втором варианте, где нет никаких аксессуаров и оба лица даны в профиль. Этот эскиз завершен в цвете: синяя гамма – от черно-синего, как грозовая туча, к зеленовато-синему, зеленовато-голубому, разрешающемуся в белом с прозрачными голубыми тенями. Примерно такое же цветовое решение и в фигуре ангела со свечой и кадилом. Должно быть, Врубель мыслил всю роспись храма в этом цветовом ключе.
Не менее замечательны эскизы к «Воскресению Христа». Сюжет трактован необычно: Христос восстает из разверзнувшегося гроба с белыми созвездиями цветов, Его окружает и пронизывает радужное сияние, но тело и лицо еще мертвые, как бы окоченелые, и смотрит Он неживым взором. Узы смерти не отпускают Его.
По художественному строю эскизы Врубеля в чем-то близки библейским эскизам Александра Иванова. Похожа и их судьба: ни тем ни другим не пришлось претвориться в монументальные росписи. Почему не были приняты эскизы Врубеля – осталось не совсем выясненным. Как бы ни было – их трудно представить соседствующими на стенах с композициями Васнецова, Нестерова, тем более Сведомских и Котарбинского: слишком велики были бы и стилистический разнобой, и разница во внутреннем содержании. Вероятно, Прахов был прав, говоря, что для врубелевских эскизов надо было бы и весь собор построить «совершенно в особенном стиле».
А что, если бы такой собор действительно построили (вообразим невозможное) и стены его расписал Врубель? Наверно, это был бы храм, какого на Руси никогда не бывало, храм агностиков, скептиков, атеистов-богоискателей – словом, носителей умонастроений русской интеллигентной элиты середины и конца века. Лучшие ее люди не были, за немногими исключениями, законченными позитивистами, но в большей своей части не были и правоверными христианами. Нерассуждающую веру, «простую веру» образованная часть общества утратила, установленные обряды и ритуалы исполнялись формально.
Однако для мыслящих людей, и особенно для творческой интеллигенции, Библия оставалась «книгой книг», собранием мудрых символов.
На евангельские тексты проецировались современные нравственные проблемы; об этом свидетельствуют произведения Ге, Крамского, Антокольского, Поленова. Русские передвижники были своеобразными богоискателями. Но, конечно, их картины на религиозные темы далеко отстояли от канонических интерпретаций и для убранства храмов не подходили. Художники это понимали. Еще Александр Иванов хотел, чтобы его будущие библейские композиции помещались не в церкви, а в специально для них отведенном здании. Суриков, Поленов, Репин, которым Прахов предлагал участвовать в росписи Владимирского собора, – отказались. Согласился и взял на себя общее руководство В. Васнецов, человек глубоко верующий.
Врубель таковым не был. Его религией было искусство, храмовые ансамбли притягивали его как художественные произведения: в них достигался синтез искусств, в них господствовал величавый гармонический лад. Послужить созданию нового храма значило для Врубеля служить искусству, а не богословию. Но в разведении этих понятий крылось противоречие, которое художник замечал. «Рисую и пишу изо всех сил Христа, а между тем – вероятно, оттого, что вдали от семьи, – вся религиозная обрядность, включая и Христово Воскресение, мне даже досадны, до того чужды» (из письма к сестре). То есть он попросту не мог верить в того Христа, которому молятся в церкви, поправшему смертью смерть. У него получался какой-то совсем другой образ в эскизах к «Воскресению».
Заветной темой Врубеля, к которой сходились все нити его киевских работ, стал в ту пору Демон, существо гордое и непокорное. Над «Демоном» художник трудился напряженно и увлеченно, без всяких заказов, только для себя. Ни один из киевских «Демонов» не сохранился, хотя их было несколько, в том числе в скульптуре; Врубель их не доканчивал и уничтожал. Многие их видели, и сам художник в письмах к сестре постоянно упоминал о работе над «Демоном» как о самой для него важной.
Как понимал Врубель этого своего героя, передавал с его слов А.В. Прахов. «Он утверждал… что вообще Демона не понимают – путают с чертом и дьяволом, тогда как “черт” по-гречески значит просто “рогатый”, “дьявол” – “клеветник”, а “демон” значит “душа” и олицетворяет собою вечную борьбу мятущегося человеческого духа, ищущего примирения обуревающих его страстей, познания жизни и не находящего ответа на свои сомнения ни на земле, ни на небе». Можно добавить строки из письма отца Врубеля, видевшего в мастерской сына начатый холст: «Миша говорит, что демон – это дух, соединяющий в себе мужской и женский облик. Дух не столько злобный, сколько страдающий и скорбный, но при всем этом дух властный, величавый».
Что «Демон» Врубеля при первом своем возникновении подсказан поэмой Лермонтова, сомнений нет. (Врубель был «литературным» художником, в том смысле, что почти все свои сюжеты черпал из произведений мировой литературы, давая им новую жизнь оригинальной трактовкой.) Труднее понять, почему этот образ так захватил его именно в то время, когда он работал для Церкви. Тут можно только строить догадки. Возможно, первым импульсом обращения к Демону было душевное смятение Врубеля, связанное с любовью к женщине, жене его патрона и покровителя, матери семейства, – любовью благоговейной и грешной, уживающейся с одновременным необузданным увлечением какой-то заезжей циркачкой. Он и в самом деле «не находил примирения обуревающих его страстей», терзался сомнениями, задавался вопросами, остававшимися без ответа. Его блуждания в «трущобах сердца», его личные переживания в творчестве приобретали сверхличный смысл. Смысл требовательного вопрошания, обращенного к некой высшей силе, цели которой непостижимы, а мятежный человеческий дух не может смириться с отказом от их познания. Но, бросая вызов Творцу, Демон оказывается отторгнутым и от Его творения, обреченным на одиночество во Вселенной.
Лишь только Божие проклятье
Исполнилось, с того же дня
Природы жаркие объятья
Навек остыли для меня…
У Лермонтова Демон, хотя и страдающий, все же «царь познанья и свободы». В Демоне Врубеля нет царственности, в нем больше тоски и тревоги, он исполнен или глубокой печали, или – угрюмого ожесточения. Оба эти облика, чередуясь, снова и снова возникают; на холсте, в глине, на обрывках бумаги снова и снова появляется незабываемое лицо: узкий овал, косматая львиная грива, излом бровей, трагический рот. То он бросает на мир исступленный ненавидящий взор, то «похож на вечер ясный – ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет», то становится жалок.
Первые два года после переезда в Москву были почти целиком посвящены теме Демона: в 1890 году написан «Демон сидящий», в 1891-м исполнены иллюстрации к сочинениям Лермонтова. Художник писал сестре: «Вот уже с месяц я пишу Демона, то есть не то чтобы монументального Демона, второго я напишу еще со временем, а “демоническое” – полуобнаженная крылатая молодая уныло-задумчивая фигура сидит, обняв колена, на фоне заката и смотрит на цветущую поляну, в которой ей протягиваются ветви, гнущиеся под цветами». Сидящий Демон печален и незлобен. Передано то состояние души, когда охватывает чувство бесконечного одиночества и кажется, что ты отгорожен от живого мира непроницаемой стеклянной стеной. Цветы вокруг Демона – каменные: художник подсмотрел их формы и краски в изломах горных пород. Окаменели и облака. Могучая, мощно вылепленная фигура cropбилась, бессильно поникла. По выражению пронзительной грусти в лице, в глазах, по совершеннейшей пластике, по силе общей концепции картина эта – одна из вершин искусства Врубеля.