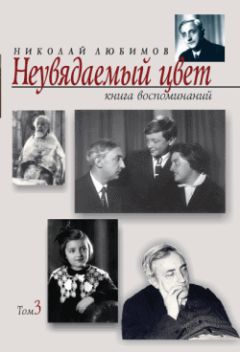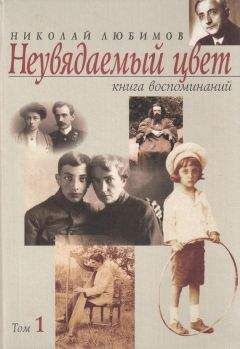Николай Любимов - Неувядаемый цвет: книга воспоминаний. Т. 3
Живоедова, однако, все еще страшится: а ну как Пазухину покажется подозрительным, чего это она завозилась под «кроваткой»?
А ну как он в ту пору спросит: ты чего, мол, дрожишь, Аннушка? Ты, мол, верно, меня обокрала?
Глупая баба! – в сердцах говорит себе начинающий терять терпение Фурначев – Тарханов и тут же находит выход из положения – и безопасный и комичный, прибегая к эвфемистическому намеку:
Если он и сделает вам такой вопрос, – опять с улыбочкой обращается к Живоедовой Фурначев – Тарханов, – так вы можете сказать, что от натуги сконфузились …
Он таким сладким тоном подбивает Живоедову на преступление, точно уговаривает ее доблестный поступок совершить. И, только заканчивая разговор, он смотрит на нее холодно-жестоким взглядом гипнотизера и отдает приказ:
Вы это сделаете, почтеннейшая Анна Петровна!
Лексика Фурначева – это лексика душеспасительных бесед, его синтаксис – это синтаксис свода законов, уложения о наказаниях:
… развращение века таково, что нравственные красы пред коловратностью судеб тоже в онемение приходят.
Фурначев – Тарханов произносит подобные фразы так, что мы чувствуем и видим в нем елейного кляузника и крючкотвора.
Фурначев мягко стелет и в поступках и в речах. Он обходителен со всеми. Какую-то полуэкономку-полуприживалку Живоедову называет «почтеннейшая Анна Петровна», «любезнейшая», и эту повадку Тарханов подчеркивает в Фурначеве, ибо тот и впрямь готов угодить собаке дворника, ежели ожидает от нее какого-либо проку.
Фурначев – Тарханов весь – расчет, без мысли о поживе он шагу не ступит, но любая, самая злокозненная мысль у этого человека с утиным носом и плотоядными губами облечена в наиблагопристойнейшую форму, какую умеет придавать любому злодеянию эта протобестия, этот обер-ябедник, понаторевший в той суровой школе жизни, какую ему довелось пройти.
Он хитрит и суесловит даже перед своей недальнего ума супружницей. Надо заметить, что в лице Шевченко Тарханов имел достойную партнершу. Недаром кто-то из критиков находил в ней нечто от кустодиевской Венеры. Когда она с блаженно-бессмысленной задумчивостью жевала яблоко, это стоило целого монолога.
Фурначев мало действует (за исключением последнего акта), он все больше рассуждает, рассуждает обстоятельно и пространно, он выявляет себя главным образом в слове. И таково было искусство Тарханова, его любовь к слову, его ощущение словесных слоев, что зрители не скучали во время его рацей, – напротив, зрителям становилось ноль, когда Тарханов умолкал.
Книппер-Чехова
Если бы меня спросили, кто из виденных мною актрис представлял собой образец внешнего и внутреннего изящества, я бы не задумываясь ответил:
– Книппер-Чехова.
В иных ролях, в которых мне довелось ее видеть, она была бледна, играла «без жизни, без любви». Я имею в виду ее Хлёстову и ее г-жу Пернель из «Тартюфа». Объяснить это не составляет труда: обе роли она играла за неимением других.
Конечно, Книппер-Чехова превосходно чувствовала разницу между, скажем, аристократкой графиней Чарской из «Воскресения» и уездной мордасовской гранд-дамой Марьей Александровной Москалевой из «Дядюшкина сна» Достоевского, но стихия быта не была ее родной стихией. К ролям с интенсивно бытовой окраской, с бытовым говорком, к ролям, которыми прославились знаменитые «старухи» Малого театра – Рыжова, Массалитинова, Пашенная, – у нее не лежала душа. Из нее не вышло бы художницы-жанристки.
Но где требовалось очарование женственности, где требовались психологические полутона, где нужно было пережить, как выразился Станиславский, «трагедию женского сердца от искреннего чувства и увлечения», за что Станиславский в письме к участникам 100-го представления «Вишневого сада» посылал «дорогой и неувядающей Раневской – Ольге Леонардовне» свой первый поклон, за что он ей «кланялся низко, восторженно приветствовал и поздравлял», где требовалось плести словесное кружево, там Книппер-Чехова была неподражаема и незаменима. Если не она играла Раневскую в «Вишневом саде» или Марью Александровну в «Дядюшкином сне», корабль спектакля давал сильный, издали заметный крен.
В инсценировке толстовского «Воскресения» Книппер-Чехова появлялась только в одном, сравнительно коротком эпизоде – и ухитрялась создать вполне законченный образ, образ женщины, как определяет ее Толстой, здоровой, веселой, энергичной, и остаться в памяти зрителя со всем своим внешним обликом светской львицы, со всеми своими безобидно-насмешливыми интонациями и таким же добродушным заразительным смехом.
Графиня Чарская – Книппер совсем не великосветская мегера и не ханжа. Она не жалует всех этих «стриженых», как она называет революционерок. Но она нисколько не сердится на своего племянника Нехлюдова за его антраша, она только не в состоянии понять его покаянный порыв. Поначалу она обеспокоена, и это беспокойство за его судьбу слышится в ее фразе:
… как же мне говорили, что ты хочешь жениться на ней?
Да и хотел, но она не хочет.
Чарская – Книппер превращается в соляной столп. Чего угодно могла она ожидать, только не этого оборота: падшая женщина отказывается от такой партии! Полно, уж не дурачит ли ее племянник? Как же скоро она удостоверивается, что Нехлюдов и не думает шутить, у нее сразу отлегло от сердца, и она удовлетворенно замечает:
Ну, она умнее тебя.
И – уже с облегченной веселостью:
Ах, какой ты дурак! И ты бы женился на ней?
Непременно.
После того, что она была?
Тем более. Ведь я всему виною.
Нет, ты просто оболтус! Ужасный оболтус! Но я тебя именно за это люблю, что ты такой ужасный оболтус…
Слово «оболтус» Книппер-Чехова произносила с какой-то особенной нежностью, даже с гордостью за своего племянника.
В свое время критики прозевали спектакль Художественного театра «Дядюшкин сон». А иные морщились: «Пустячок!..» Между тем это был спектакль-шедевр, отшлифованный во всех своих частностях. Ухо не улавливало ни одной фальшивой ноты ни в «ариях», ни в «дуэтах», ни в «трио», ни в «хорах».
Книппер-Чехова играла даму из общества, но из захолустного общества. Такой и изобразил ее Достоевский. Видно было, что она хорошо себя вышколила, вымуштровала, но «провинция» нет-нет, да и прорывалась. Вот почему ее сцена с мужем, Афанасием Матвеичем, которого она обзывает и дураком, и болваном, и чучелой, – эта сцена при всей ее контрастности не производила впечатления чего-то неорганичного. Зрители были к ней отчасти подготовлены поведением Книппер – Чеховой в сценах, ей предшествовавших. Когда Марья Александровна разливалась соловьем в разговоре с дочерью или с Мозгляковым или рассыпалась бисером перед князем, мы угадывали в ней то по злобному сверку в глазах, то по нетерпеливому передергиванию плечами не только бурный темперамент, который в одночасье может ее и захлестнуть, с которым она в иные минуты не в силах будет справиться, стоит лишь побольнее наступить ей на ногу, – мы чувствовали, что ее светскость – это все заученное и наигранное, это тонкий слой белил и румян, прикрывающий внутреннюю невоспитанность и грубость обитательницы медвежьего угла. Но срывала она с себя маску либо в тех случаях, когда ей некого стесняться, у себя в имении, в разговоре с мужем, которого она третирует, или когда ей уже нечего терять.
Москалева – Книппер умна, тактична, политична. Она даровитая, искусная, опытная интриганка, интриганка по призванию. В сфере интриг и сплетен она чувствует себя, как щука в реке. Она мастерица подпускать своим завистницам шпильки, и подпускает она их с видом полнейшего и невиннейшего доброжелательства, так, словно делает комплимент. Она навыкла играть на особо чувствительных, самых слабых струнках человеческой души. Ей потому многое и удается, что она вотрет человеку очки, подставит ножку, а затем как дважды два докажет ему, что она в его же интересах действовала, для него же старалась. Так она проводит за нос и околпачивает Мозглякова. Насквозь видит ее только родная дочь, Зина:
Попросту выходит: выйти замуж за князя, обобрать его и рассчитывать потом на его смерть, чтобы выйти потом за любовника. Хитро вы подводите ваши итоги!
Но зачем же, дитя моё, смотреть непременно с этой точки зрения – с точки зрения обмана, коварства и корыстолюбия?.. Ты, как прекрасная звезда, осветишь закат его жизни; ты, как зеленый плющ, обовьешься около его старости … Будь же его другом, будь его дочерью, будь, пожалуй, хоть игрушкой его, – если уж все говорить! – но согрей его сердце, и ты сделаешь это для бога, для добродетели! – с мелодраматическим пафосом, возведя очи горе, восклицает Москалева – Книппер.
Дочь дает этой предприимчивой авантюристке и аферистке очень верное определение:
Я нахожу еще, маменька, что у вас слишком много поэтических вдохновений: вы женщина-поэт…
И в самом деле: Марья Александровна у Достоевского и у Книппер отнюдь не зауряд-интриганка. Она в своем роде поэт, поэт-лирик и поэт-дидактик, хотя и пошлый, хотя и ходульный. Любому своему низменному побуждению она придает нечто возвышенное, пусть заемный, пусть фальшивый, но все же блеск. И вот эта поэзия интриги и расчета составляла, пожалуй, главную прелесть игры Книппер-Чеховой.