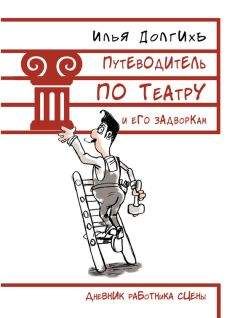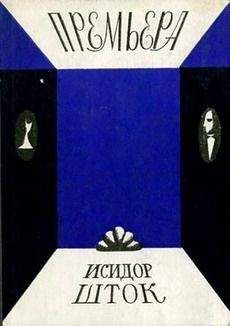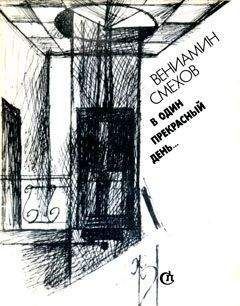Михаил Буткевич - К игровому театру. Лирический трактат
Предложений было столько, что опробовать их все просто не хватало времени, и это сильно огорчало вошедших во вкус артистов и режиссеров. Каждому казалось, что его версия самая лучшая, самая выигрышная. Но больше всех страдал Василий Иванович. На второй репетиции "ослепления", когда все были на сцене, он подсел ко мне и зашептал на ухо:
Михал Михалыч, разрешите, я предложу им прекрасный вариант.
Пусть они сами придумывают, — прошептал я в ответ.
Но у меня лучше.
Вася, вы, кажется, забываете, что вы давно уже не студент. Педагог нашего толка должен иметь терпение. Нужно уметь ждать, когда ваши ученики принесут вам нужное решение.
Что вы, Михал Михалыч? Они никогда не придумают такого решения, как у меня.
Как же я был приятно удивлен, когда, через год-полтора, работая над этой книгой, я нашел вот такое у Мейерхольда: "... мы все время сидим на комедии, это очень хорошо, — мы готовим себя к трагедии, а к великой трагедии можно подойти только путем комедии — через комедию к трагедии, потому что мы подходим именно путем трюков". (Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. М., 1968, часть вторая. С.86).
Я остолбенел от такой самонадеянности! Но когда после репетиции Вася все-таки заставил меня выслушать придуманный им трюк, я с ним полностью согласился, Находка была почти гениальной.
Хорошо, они сделают это на спектакле. Расскажете им перед самым спектаклем. А до этого — никому ни слова.
Но ведь тут требуется исходящий реквизит... Где они возьмут его перед самым спектаклем.
Мы принесем из дома. Часть — вы, часть — я.
ХА — ХА — ХА!
Это хохотали на сцене — там начиналась вакханалия отчаянного веселья: ярмарочного, балаганного, базарного. Шуты состязались друг с другом, каждый старался как мог. В одном углу, окруженный кучкой зевак, бесстыдно кривлялся высоченный, под два метра, парень. Размалевав лицо и прицепив чудовищной величины груди, нахлобучив набекрень жестяную корону, прицепив к ней длинную фату, откормленный гигант изображал кровожадность миссис Реганы. В другом углу маленький, вертлявый Панч (английский Петрушка) пыжился и пищал, пародируя театральный героизм, — он разыгрывал перед собравшейся толпой самоотверженный подвиг слуги, заступившегося за Глостера: угрожал тирану-герцогу, размахивая бутафорским мечом, показывал все сто пятнадцать вариантов своей расправы над Корнуолом.
Но центром вакханалии был, конечно, сам Глостер. Он сидел, привязанный к стулу, и, приставив к глазам два куриных яйца, притворялся перепуганным пациентом в кресле зубного врача. Яйца делали его лицо похожим на клоунскую маску. Он вертел глазами-яйцами в разные стороны, как бы оглядываясь на врача. А "врач-палач" нависал над ним, взгромоздившись на спинку стула — развязный лекарь балаганной комедии, алчный шарлатан народного игрища: меховая безрукавочка на голом теле, белозубая улыбка на румяном лице и громадный кухонный нож в правой руке. Размахивая ножом, созывал он почтеннейшую публику; выкрикивал неправдоподобные анонсы по поводу предстоящей казни вперемешку с нескромными остротами на тему яиц, от которых мужчины краснели, а женщины покатывались со смеху.
В этой сцене шутовского ослепления комедия хватала трагедию за горло, стараясь задушить ее на корню, но трагедия даже не сопротивлялась, потому что хорошо знала себе цену, понимала свою власть над сердцами театральных зрителей и была уверена в своей неистребимости.
Раздалась длинная барабанная дробь — крещендо.
Палач с обезьяньей ловкостью соскочил со спинки кресла, выдернул яйцо из руки Глостера и расколол его быстрым и точным ударом ножа. Глостер издал душераздирающий вопль рыжего клоуна, а палач ловким, деловым движением раскрыл половинки скорлупы и вылил содержимое в подставленную ладошку жертвы.
На ладони дрожал и влажно поблескивал беззащитный желтый глаз.
Новая дробь барабана, новый взмах ножа, новый вопль — и вот уже Глостер, обливаясь горючими слезами и суча ножкой, недоуменно смотрит на вытянутые свои ладони, на зная, что делать со столь деликатными предметами.
Все окружающие тоже зачарованно смотрели на разбитые яйца. Искорками то тут, то там вспыхивали смешки и хихиканья. Напряжение нарастало, и, как по мановению волшебной палочки, появился на сцене инициатор. Красной тряпкой, на отлете он держал в правой руке раскаленную сковородку,. Сковородка потрескивала разогретым маслом и дымилась синим дымом. Зал встретил ее радостным оживлением. Инициатор подбежал к красному комбинезону и изысканным движением ресторанного официанта подставил ему сковородочку. Глостер перевернул ладони, яйца вылились на горячее масло, прозвучал мирный кухонный взрыв и по залу разнесся знакомый всем до одного утренний запах шипящей на плите яичницы-глазуньи.
Присутствующие на сцене актрисы заплескали в ладоши, под эти жидкие, но приятные овации инициатор-официант вынес яичницу в зал и понес ее перед зрителями первых рядов. Яичница шипела и распространяла соблазнительный аромат. Зрители глотали слюну и провожали ее облегченным вздохом, переходящим в хохот полной разрядки.
Так было на спектакле, но точно так же было и на всех репетициях: делали каждый раз как в первый раз и каждый раз как в последний. На каждой репетиции делали другое, и спектакль стоял в этом же ряду в цепочке неповторимых повторений.
Здесь я обязан процитировать одного из самых глубоких и оригинальных мыслителей советского искусствоведения. Его соображения помогали мне в работе над "Королем Лиром". Его слова я цитировал ученикам чуть ли не на каждой репетиции — целиком и частями, по порядку и в разбивку, с лирическим пафосом и с научным беспристрастием:
"Игра и вариации у Шекспира не являются мастерской или архивом художника. Они присутствуют в окончательном тексте, ибо воспроизводят работу самой реальной жизни, тоже пробующей, тоже не сразу приходящей к решению" (Н. Я. Берковский).
Актеры были в восторге. Они шумно обменивались мнениями, спорили между собой, тем более, что многие из них не знали заранее о трюке с яйцами и сковородкой, а те, кто знал, не представляли его во всей конкретности. Наперебой подбегали они к Глостеру, что-то ему весело кричали и похлопывали его одобрительно по плечу или по спине, а он сидел неподвижно на своем троне, уронив руки, и неотрывно смотрел в одну точку перед собой.
Зрители тоже были в восторге, они тоже хлопали и кричали, но волна аплодисментов как-то быстро и внезапно оборвалась. Я обернулся в зал — понял, что случилось, в чем дело, и увидел задумчивые, напряженные лица. Люди думали о своих противоречивых впечатлениях, они решали, какую им занять позицию: одобрение или осуждение, за или против, "про" или "контра".
Игра не обязательно веселое развлечение, иногда она бывает испытанием. Для артистов. Игра довольно часто становится весьма серьезным экспериментом над собой. Для зрителей, к сожалению, намного реже. Сознательно соединяя театр и игру, мы как бы предоставляем нашему зрителю более реальную возможность испытать самого себя.
Ослепленный Глостер встает со стула и медленно-медленно идет к авансцене, в ужасе и недоумении глядя на свои руки, еще мокрые и липкие от разбитых яиц. А когда он поднимает на зрительный зал глаза, перечеркнутые кровоточащими крестиками губной помады, мы уже не сомневаемся, что он слеп. Артист Юрий Иванов, вероятно, очень хороший артист, потому что слепоту он играет безупречно — сразу наступает та необъяснимая тишина, которая всегда маркирует самые значительные события спектакля.
Что-то шепчут его губы, но мы не слышим никаких слов, что-то ищут его осторожные руки, но мы не видим их движений. Жалкая, беспомощная улыбка все время то появляется, то исчезает на его лице, но мы не улавливаем никакой мимики. Так светит в пасмурный летний день скрытое за облаками солнце; так первый весенний ручеек чуть слышно журчит под сплошной еще коркой смерзшегося снега, покрывающего склоны оврага; так неисповедимыми своими путями пробивается в сердце ребенка бесконечная отцовская любовь, спрятанная за суровой личиной внешнего делового безразличия.
Равнодушные молодые англичане по инерции продолжают дразнить его и цеплять: подбегают к нему и толкают, то сзади, то спереди, то в плечо, то в спину, то в грудь. И это становится похоже на игру: посреди круга ходит человек с растопыренными руками и завязанными глазами (на этот раз, правда, глаза его "завязаны" навсегда), а со всех сторон его теребят расшалившиеся азартные (только на этот раз почему-то лысые и бородатые, отчего-то жестокие и наглые).
А игра — она имеет свои законы и свою магию — все равно напоминает о детстве, об ушедшей куда-то чистоте, и игроками овладевает навязчивая ностальгия лиризма, движения играющих обретают мягкость, прикасания к слепцу становятся осторожнее и ласковей, и вот уже над игрой, в воздухе, порхая, начинает кружиться невидимый и пока еще неслышимый вальс: "татта-та-та, татта-та-та, тата-та".