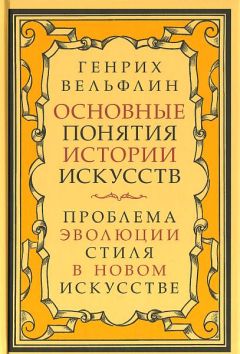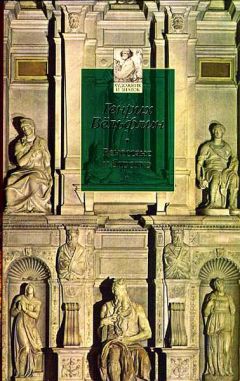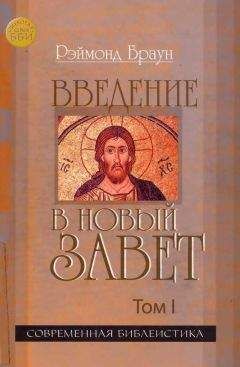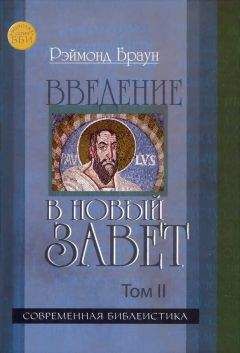Генрих Вёльфлин - Классическое искусство. Введение в итальянское возрождение
Световой баланс нацелен на то, чтобы затемненная сцена на земле служила контрастом небесному блистанию. Однако в случае второй, позднейшей картины Сарто оставил открытой одну светлую полосу, начинающуюся еще внизу, и более значительный в части движения живописец, Рубенс, последовал здесь за ним, поскольку неверно было бы изображать «Вознесение» разделенным на две части столь резко подчеркнутой горизонталью.
Двое стоящих на коленях святых на первой «Ассунте» восходят к Фра Бартоломмео; в случае второй редакции мотив коленопреклоненных фигур на переднем плане сохранен, и в угоду контрасту художник не пожелал даже избавиться от той банальности, когда одна из них (в данном случае это апостол) во время торжественного действа смотрит с картины прямо на зрителя. Здесь — начало безразличных фигур первого плана XVII в.: художники явно начинают использовать формы искусства в качестве лишенных выражения формул.
О «Пьета» в Палаццо Питти мы и вовсе говорить не станем.
4. Портретная живопись Андреа
Андреа дель Сарто написано немного портретов, за ним как бы уже заранее не предполагается особенной предрасположенности к портретной живописи. Однако существуют портреты, относящиеся к его молодости, причем портреты мужские, притягивающие к себе зрителя неизъяснимой прелестью. Это известные произведения: два лицевых портрета в Уффици и Питти и полуфигура в лондонской Национальной галерее (рис. 131 {35}, 132). Они в полной мере обладают Сартовым благородством в самой лучшей его ипостаси и создают впечатление, что ими художник желал выразить нечто совершенно особенное. Поэтому не стоит удивляться тому, что они воспринимаются как автопортреты. И все же можно сказать со всей определенностью, что автопортретами они быть никак не могут.
131. Андреа дель Сарто. Скульптор. Лондон. Национальная галерея 132. Андреа дель Сарто. Автопортрет. Флоренция. ПиттиВсе это весьма напоминает случай с Гансом Гольбейном-младшим, когда предубеждение в пользу обаятельного анонима на портрете сформировалось уже очень рано, и преодолеть это предубеждение очень трудно: мы располагаем подлинным портретом Гольбейна (рисунок в собрании автопортретов в Уффици), однако следствия из этого, а именно что одно исключает другое, извлекать не хотят, поскольку воображение неохотно расстается с более красивым типажом.
Подлинный портрет молодого Андреа находится на фреске «Поклонение волхвов» во дворе Аннунциаты, а портрет в более пожилом возрасте — в собрании автопортретов (Уффици). Они определяются с совершенной точностью, поскольку о том и другом упоминает Вазари. Людей же на портретах, названных первыми, никак с ними не отождествить, да и между собой они, кажется, не согласуются: лондонская картина, видимо, все-таки изображает другого человека, нежели флорентийские. Однако две последние восходят к одному изображению, поскольку соответствуют друг другу в каждой линии, вплоть до деталей складок. Очевидно, экземпляр в Уффици — копия, а подлинником является картина в Питти, которая, хотя она также сохранилась не вполне, все же обнаруживает более умелую руку. Только о ней и будет здесь идти речь.
Лицо проступает из глубины темного фона. Оно не бросается нам в глаза с черного задника, как это можно встретить, к примеру, у Перуджино, но остается как бы погруженным в зеленоватое мерцание. Самый яркий свет лежит не на лице, но на случайно открывшемся взгляду клочке белой рубашки близ шеи. Мантия и воротник приглушены по цвету — они серо-коричневых тонов. Крупные глаза спокойно выглядывают из глазниц. При всей своей живописно-живой вибрации изображение достигает высшей степени устойчивости благодаря вертикальной посадке головы, подаче в полный анфас и чрезвычайно спокойному распределению света, который выделяет точно половину лица, причем падает как раз в необходимые точки. Возникает впечатление, что голова приняла это положение, в котором вертикальная и горизонтальная оси прослеживаются с абсолютной чистотой, всего мгновение назад, резко повернувшись. Вертикаль проходит до заостренной верхушки берета. Простота линий и спокойствие значительных светотеневых объемов связываются с проясненным формоопределением зрелого стиля Андреа. Во всем ощущается основательность. То, как проступают уголки глаз, как проведена моделировка подбородка или намечены скулы, заставляет то и дело вспоминать «Диспут о Троице», который, очевидно, создавался приблизительно в это же время[109].
В этом изящном и одухотворенном лице вполне можно видеть идеальный тип в духе XVI столетия. Картину хотелось бы поместить вместе со «Скрипачом», с которым она состоит как во внутреннем, так и во внешнем родстве, в один ряд с другими портретами людей искусства. Как бы то ни было, это один из прекраснейших примеров воспринятой чинквеченто на высоком уровне человеческой формы, общую основу которой, возможно, следует искать у Микеланджело. Нельзя не признать здесь присутствие того духа, которым дышит «Дельфийская сивилла».
133. Франчабиджо. Задумавшийся юноша. Париж. ЛуврВ качестве написанной более в Леонардовом стиле пары этому портрету Андреа можно воспринимать «Задумавшегося юношу» в Лувре (рис. 133), превосходную картину, фигурировавшую уже под самыми разными именами, однако ныне, на мой взгляд справедливо, приписываемую Франчабиджо, также как и та совершенно затененная голова юноши 1514 г. в Палаццо Питти [ныне Уффици], где его левая рука несколько архаически-окоченелым жестом, долженствующим обозначать акт говорения, опирается на парапет[110]. Парижская картина написана несколько позднее (около 1520), и последние следы окоченелости или ограниченности с нее изгнаны. Молодой человек, чью душу снедает неведомая нам боль, смотрит перед собой вниз, причем чрезвычайно характерны легкий поворот головы и ее наклон. Одна рука опирается на парапет, правая же лежит поверх нее, и в движении этом, с его мягкостью, заключено нечто совершенно индивидуальное. Мотив в целом не лишен общности с «Моной Лизой», и все же насколько интенсивно растворяется здесь все в выражении данного мига, так что претенциозный парадный портрет оказывается преобразованным в снимок настроения, обладающий прелестью жанровой картины. Вы не задаетесь вопросом о том, кто здесь запечатлен, но сразу же испытываете интерес к показанному моменту. Глубокое затенение глаз прежде всего служит приданию изображенному выражения погруженного в уныние меланхолика. Линия горизонта также становится по-своему выразительным моментом. Неверно только пространственное воздействие, увеличенное в сравнении с оригиналом во всех направлениях. На нашей иллюстрации сделана попытка восстановить первоначальный вид.
Загрезивший этот образ звучит своеобразно-современно. Насколько тоньше восприятие здесь, нежели, к примеру, в автопортрете молодого Рафаэля в Уффици. В прочувствованности XV в. всегда присутствует некоторая навязчивость по сравнению с более сдержанным выражением настроения в классическую эпоху.
Глава VII Микеланджело (1475–1564). После 1520 г.
Никто из великих художников не обладал с самого начала таким всеобъемлющим воздействием на свое окружение, как Микеланджело, и угодно же было так распорядиться судьбе, что этому мощнейшему и своевольнейшему гению оказалась отведена еще и самая продолжительная жизнь. Когда все остальные сошли уже в могилу, он еще продолжает работать — на большем временном отрезке, чем жизнь человека. Рафаэль умер в 1520 г. Леонардо и Бартоломмео еще того раньше. Сарто, правда, дожил до 1531, однако последнее десятилетие было у него наименее значимым, и не складывается впечатления, что его еще ожидало какое-то развитие впереди. Однако Микеланджело не останавливался ни на один миг, и, как кажется, лишь во второй половине жизни мощь его достигает полной собранности. Были созданы гробница Медичи, «Страшный суд» и собор св. Петра. По всей Средней Италии существовало теперь лишь одно искусство и за новыми откровениями Микеланджело Леонардо и Рафаэль оказались полностью позабыты.
1. Капелла Медичи
Надгробная капелла Сан Лоренцо — один из немногих примеров в истории искусств, когда интерьер и статуи создавались не только одновременно, но и вполне определенным образом друг для друга предназначались. Все же XV столетие обладало лишь локальным взглядом и находило, что отдельные красоты красивы повсюду. В таком великолепном интерьере, как надгробная капелла кардинала Португальского в Сан Миньято, гробница помещена в данный момент именно сюда, однако с таким же успехом она могла оказаться и в другом месте, ничего при этом не утратив из воздействия, которым обладает. Также и в случае гробницы Юлия не все в определении интерьера зависело от Микеланджело: это должно было быть здание внутри другого здания. Лишь проект фасада Сан Лоренцо, который предстояло ему возвести в качестве драгоценного архитектонически-пластического оклада семейной церкви Медичи во Флоренции, давал возможность привести фигуры и архитектурные формы в целостное взаимное соответствие с расчетом на определенное воздействие. Проект расстроился. И если архитектура могла здесь теперь служить исключительно обрамлением, тем более благодарной с художнической точки зрения делалась задача — получить в связи с новым заказом на надгробную капеллу такое внутреннее пространство, которое не только допускало более свободное развитие пластики, но полностью передавало в руки художника также и свет. И Микеланджело принял его в расчет как один из наиболее существенных факторов. Для фигур «Ночи» и «Pensieroso»[111] он предусмотрел полное затенение лиц — случай беспрецедентный в истории скульптуры.