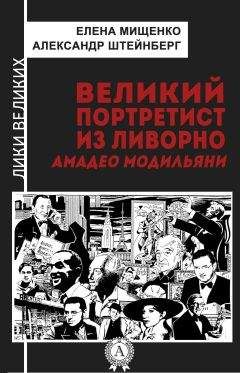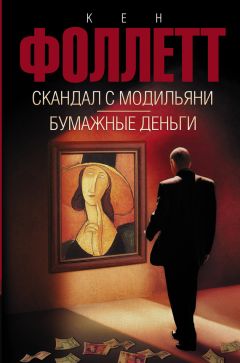Кристиан Паризо - Модильяни
В Ливорно, насчитывавшем семьдесят тысяч жителей, имелась еврейская община в пять или шесть тысяч человек, в большинстве своем происходивших от иудеев-сефардов, изгнанных из Испании в XV веке Изабеллой I Кастильской, прозванной Изабеллой Католической за то, что она реорганизовала инквизицию и усилила ее влияние в стране. В XVI веке первый великий герцог Тосканский Козимо I Медичи преобразовал деревушку на побережье в порто-франко, чтобы открыть себе выход к морю. Следуя по стопам родителя, его сын, великий герцог Фердинанд I, тонкий и прозорливый политик, стал охотно допускать в Тоскану всякого рода предприимчивых людей, как скромных ремесленников, так и богатых негоциантов, облегчая для них возможность вписаться в местное общество. Деревенька сделалась многонациональным городом, одним из самых больших портов средиземноморского побережья, крупным промышленным центром со своими плавильными заводами, верфями, сталеплавильными печами, а несколько позже — еще и со знаменитым училищем офицеров морского флота. Так родился Ливорно. Начиная с 1593 года здесь мирно уживаются с коренными жителями пришельцы всякого рода, представители иных этносов, и между ними — евреи, пользовавшиеся привилегией, обеспеченной им «ливорнской хартией», конституционным законом, каковым великий герцог Фердинанд даровал инородцам тосканское гражданство, свободу передвижения людей и товаров, право приобретения собственности на всей территории провинции, а также позволил им жить без тех утеснений, каким они подвергались в других крупных городах Италии с их системой гетто. Текст хартии гласил:
«Вам всем, торговым людям всех стран, приехавшим с Леванта или с Запада, испанцам, португальцам, грекам, германцам, итальянцам, иудеям, туркам, маврам, армянам, персам и прочим… мы жалуем полную, неотъемлемую и безраздельную свободу передвижения, неотменимое разрешение на приезд, отъезд и долгое либо краткое пребывание, на ведение торговых и промышленных дел, на проживание со своими семействами без помех, а также наезды с торговыми целями в город Пизу и на земли Ливорно…»
С 1896-го по 1901-й Амедео Модильяни не раз пользовался случаем посетить Сардинию вместе с отцом и с разрешения Евгении проводил там по нескольку дней. В гостинице Иглезиаса он завязал дружбу со всеми детьми семейства Тачи: с Нормой, Медеей, Анитой, Клелией, с Есией и Каем, но особенно близко он сошелся с Медеей, хрупкой девочкой, как и он, вечно погруженной в себя. Увы, их дружба длилась недолго: в 1898 году девочка заболела менингитом и в июне скоропостижно умерла. Это печальное событие надолго оставило в его душе тяжелый след. Потом он по фотографии написал портрет своей рано ушедшей подруги. Картина была сохранена Тито Тачи, отцом Медеи, который впоследствии передал полотно ее сестре Клелии, и она свято его хранила. Далее портрет достался ее племяннику Карло, продолжающему жить в Иглезиасе. Черты лица на портрете чуть расплывчаты, портрет исполнен в профиль на очень тонком холсте масляными красками, разведенными скипидаром, а мазок напоминает стилистику маккьяйоли, близкую итальянскому импрессионизму. В правом углу художник оставил место, чтобы вписать даты — одну, должно быть, в память его первой встречи с Медеей, другая свидетельствовала о времени окончания картины. Полотно подписано двумя инициалами, выполненными красной краской так, что «М» обрамляет «А». После расчистки полотна и рамы, проверки аутентичности основы и возраста красителей подпись «Модильяни» (с маленькой буквы) проступила на обороте картины, чуть подальше от края.
В Сульчисе, на Сардинии, бытует непроверенный слух о существовании другого полотна Модильяни «Бабочка» («La Farfalla»), долгое время висевшего в директорском кабинете Общества шахт Монтепони, куда частенько заходил Умберто Модильяни, горный инженер. Бывшие служащие фирмы, горячо поддержавшие эту версию об исчезнувшем подлиннике, свидетельствуют, что полотно провисело на стене выставочного зала, принадлежащего фирме, вплоть до Второй мировой войны. Ныне в этом зале выставлены современные художники. Вероятно, «Бабочка» действительно была юношеской работой Амедео, но, поскольку сюжет для него не характерен, может статься, что она принадлежит кисти кого-нибудь из его близких, например Маргериты, тоже занимавшейся живописью, или даже самого Умберто. Воспоминания свидетелей расплывчаты. То, что удалось доподлинно выяснить и собрать после многолетних поисков: некоторые подробности быта, уточнение кадастров всего, созданного художником, фотоматериалы, запечатлевшие жизнь двух дружественных семейств, — все это хотя бы отчасти заполняет пресловутую «черную дыру», существующую в описании итальянского периода творчества юного Амедео, хотя известно, что свое призвание он осознал уже в тринадцатилетнем возрасте к с тех пор решил посвятить жизнь живописи, рисованию и ваянию.
«Я ХОЧУ ПИСАТЬ МАСЛОМ И РИСОВАТЬ»
1897–1898-й школьный год был для Амедео катастрофическим. По итальянскому — четыре из десяти и столько же по греческому. Ему далеко до прекрасных оценок своего старшего брата Джузеппе Эмануэле, который, сдавая экзамен на степень бакалавра, получил по итальянскому восемь, девять по философии, а по латыни, по греческому, по математике и истории с географией сплошь десятки. В сущности, оба его брата и сестра учились замечательно — в результате Джузеппе Эмануэле сделался адвокатом, Умберто окончил два высших учебных заведения в Пизе и Льеже, а Маргерита стала дипломированной специалисткой по иностранным языкам; на Амедео же, не в пример им, школа навевала необоримое уныние. О его отметках по дисциплине нечего и говорить: они редко поднимались выше средней, что выдавало нестабильность нрава постоянно изнывавшего от скуки, нетерпеливого подростка. Возможно, процесс обучения так его изводил потому, что он оказался, как выражаются ныне, «одарен сверх меры». Тем более что для неуспевающего он был отменно развит и крайне восприимчив к постоянным беседам об искусстве и литературе, ведущимся в семье, что очень повышало уровень его знаний и представлений. Тетушка Амедео, Лаура Гарсен, посвятила себя редактированию статей по социологии и философии, мать юноши переводила на английский язык стихотворения Д'Аннунцио, современные романы и рассказы, сама писала книги и в течение многих лет была «белым негром» одного американского университетского профессора, что позволило ей, помимо занятий классической филологией, открыть для себя крупнейших авторов той эпохи. И вот школьник Амедео предпочитает грезить наяву, живет в выдуманном мирке, населенном сплошь философами и поэтами, а потому на протяжении всей оставшейся жизни ему придется с великим трудом сдавать экзамены и наверстывать упущенное.
«Дэдо не блистал на экзаменах, что, впрочем, нисколько меня не удивляло, ведь он очень плохо успевал в течение всего года. Первого августа он начал брать уроки рисования, к чему давно стремился. Он уже видит себя художником. Что до меня, я не слишком стараюсь его ободрять на этом пути из боязни, как бы в погоне за призрачным счастьем он не запустил остальные занятия. И все же я решила его несколько поддержать, чтобы он вышел из состояния апатии и уныния, куда все мы подчас любим скатываться».
К материальным затруднениям, с которыми Евгения сталкивается все чаще, каждый день выбиваясь из сил в своей маленькой школе, чтобы добыть средства, а на жизнь все равно едва хватает, прибавляется новая забота: в семье драма — Джузеппе Эмануэле в тюрьме. Его арестовали в мае во время демонстрации в Пьяченце и посадили как «подрывной элемент», поскольку местная секция партии социалистов пригласила его, основателя Социалистического клуба, в Ливорно, прочитать цикл лекций. Флорентийский военный суд 14 июля приговаривает его к шести месяцам заключения и большому штрафу по обвинению в призывах к бунту.
Меж тем жаждущий брать уроки рисования Амедео начинает посещать мастерскую, которую сам заблаговременно выбрал. Она принадлежит ливорнскому художнику Гульельмо Микели. Однако через месяц после начала занятий Амедео снова серьезно заболевает. На этот раз у него брюшной тиф, он несколько недель находится на грани между жизнью и смертью. И в лихорадочном бреду, и в дни выздоровления он не перестает повторять: «Хочу рисовать и писать маслом! Только рисовать и писать маслом, ничего более!»
Это станет его символом веры, девизом, идеалом существования, а потому в декабре 1898 года он окончательно покинет лицей Гуэррацци, это почти совпадет по времени с освобождением из тюрьмы его брата (3 декабря).
Никакой школы, никакого лицея, только курс рисунка в мастерской Гульельмо Микели, куда он вернется, как только окрепнет. Амедео рьяно занимается, и очень скоро его работы удостаиваются немалых похвал со стороны наставника.