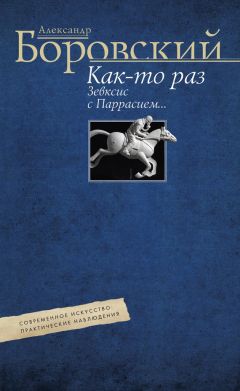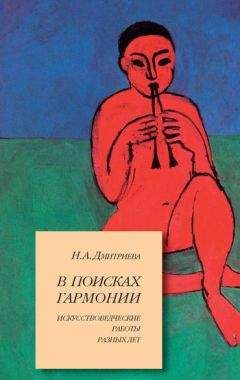Нина Дмитриева - В поисках гармонии. Искусствоведческие работы разных лет
В конкретно-историческом значении термина реализм как течение XIX века предполагал стремление к близости и верности природе, натуре. Это было его conditio sine qua non. Импрессионисты стремились к этому, может быть, сильнее, чем кто-либо до них. День за днем, год за годом они жили захватывающей, изнурительной и сладостной погоней за ускользающими тайнами «натуры». Золя в романе «Творчество», был ли прототипом его героя Мане или Сезанн (оба отнюдь не похожи по складу личности на Клода Лантье), представил художника-реалиста, «слишком реалиста», одержимого этой погоней, переходящей уже в манию, подошедшего к предельной черте в своем фатально недостижимом стремлении похитить огонь жизни, воплотить на полотне «живое».
Импрессионисты в своей позднейшей эволюции, как известно, отступили перед чертой. Но пристрастие к современному, сегодняшнему они до конца сохранили. Практика импрессионистов полностью совпадала с убеждением Милле: «Наиболее прекрасно то, что взято из самой обыденной жизни, то, что изображает обычные происшествия, чувства и поступки каждого дня»7 – и Курбе: «Я считаю художников определенного века решительно некомпетентными воспроизводить события предшествующего или будущего времени, иначе говоря, писать прошедшее или будущее»8.
Импрессионисты, при своей безраздельной преданности настоящему, были к тому же и последовательно демократичны. Даже аристократ Дега, любивший на словах полемически отстаивать элитарность искусства, на деле как никто чувствовал и передавал поэзию будничного Парижа, его труды и дни; прачки и балерины у него, в сущности, родные сестры. Ренуар с его любовью к веселому, чувственному, чуть-чуть даже балаганному «празднику жизни» был поистине сыном французского народа. Пейзажисты Моне и Сислей всем красотам предпочитали деревенские улицы, скромные пригороды. Нечего и говорить о Писсарро. «Известно, – пишет Вентури, – что импрессионизм по-своему способствовал признанию человеческого достоинства обездоленных классов, выбирая простые мотивы, предпочитая розам и дворцам капусту и хижины, подчеркивая свою неприязнь ко всякой элегантности и социальной утонченности. Но никто не пошел по этому пути так далеко, как Писсарро, и поэтому критики, начиная с 1870 года и даже после смерти Писсарро, обвиняли его в том, что он вульгарный и прозаичный живописец»9.
Что «признанию человеческого достоинства обездоленных классов» способствовали в России передвижники – это, кажется, доказательств не требует.
Словом, можно не сомневаться, что черты стадиальной близости между русским передвижничеством и французским импрессионизмом существовали. Они были вызваны к жизни единой логикой истории, исторического художественного процесса. Оба течения написали на своем знамени: реализм, современность, демократизм, раскрепощение творчества от канонов. И оба эту программу осуществили.
Наконец, и пленэр не являлся исключительной прерогативой импрессионизма. Его по-своему «открыл» духовный отец русских передвижников – Александр Иванов. Сами передвижники, правда, с пленэрной живописи не начинали, но к ней двигались по мере своего художественного возмужания. Нельзя отрицать пленэризма в полотнах 1880-х годов Репина, Сурикова, Поленова, не говоря уже о Левитане, Серове, Коровине.
Теперь встает самый существенный вопрос: почему же (и в чем) импрессионисты и передвижники были между собой решительно несходны и даже в чем-то антагонистичны?
Априори можно ответить, что вообще стадиальная близость, будучи «абстрактной близостью», отливается в непохожие конкретные формы, зависящие в первую очередь от особенностей и всякого рода «зигзагов» истории народа и его национальных культурных традиций. Но такой общий ответ никого удовлетворить не может. Интересным может быть только конкретное рассмотрение этой разности путей близких течений.
Посмотрим сначала, как они сами друг к другу относились и оценивали.
Импрессионисты, скорее всего, никак не относились к русской школе: попросту ее не знали. Никто из них в России не бывал; если им случалось видеть русские картины в Салонах и на международных выставках, едва ли они могли их заинтересовать. Вероятно, они казались им обычными неоакадемическими жанрами, что было, конечно, неверно, – но, не зная русской жизни, французы не могли, тем более по случайным и немногим вещам, почувствовать за традиционной формой самобытность русского искусства. Достоевский в одной из статей, восторженно отзываясь о картинах передвижников, добавлял, что самое главное, правдивое и глубокое, что в них есть, не будет понято иностранцами. «Не поймет и не заметит гордый взор иноплеменный…»
Иначе обстояло с русскими. Все они наезжали в Париж, подолгу там жили. Жили, насколько можно судить по письмам, довольно замкнуто, общаясь в основном между собой, в пределах своего «землячества», но усердно посещали выставки и внимательно приглядывались к французскому искусству. Это поколение русских художников, начиная с Перова, вполне освободилось от робко-ученического пиетета перед Италией и Францией: оно сознательно настаивало на своем «особом пути». Однако в своей обретенной независимости русские художники сохраняли разумную объективность, живой интерес к художественной жизни Запада и не стеснялись высказывать восхищение тем, что им нравилось. Правда, и в восхищении всегда присутствовало большое или маленькое «но»: «но это не для нас», «не наше», «у нас иные задачи».
Идея «своего пути» владела ими прочно, в этом отношении они не находили да и не искали образцов за рубежом. Но они далеко не были равнодушны к тому, что называли «красотой техники», «оригинальностью языка».
У русских художников передвижнического периода неизменно присутствовало разграничение, подчеркнутое различение «что» и «как», содержания и формы, смысла и языка – разграничение, которого вовсе не признавали импрессионисты. Русские художники, разумеется, отдавали себе отчет в нереализуемости «хорошего» содержания при «плохой» форме (что подразумевалось под формой плохой и хорошей – это уже другой вопрос), но вполне допускали возможность «блестящей формы» при довольно пустом содержании. В этом плане русских художников более всего прельщал среди их современников Фортуни: тут сходились и Репин, и Поленов, и Врубель. Только Крамской проявлял мудрый скептицизм, хотя и он не отрицал «громадного таланта» Фортуни10.
К французам отношение было неровное, колеблющееся, с оттенком недоверия, но и с готовностью признавать их высокие, хотя односторонние качества – опять-таки качества «формы». В письмах Репина, Крамского, Сурикова, Поленова, Савицкого речь идет чаще о «французах» вообще, чем об отдельных французских художниках или школах: ни одного французского художника они не выделяли так безусловно, как испанца Фортуни. С похвалой часто отзывались о Мейсонье (кроме Сурикова, который терпеть не мог Мейсонье за «фотографизм»), о Ренье – молодом романтике, погибшем во время франко-прусской войны, о Делароше н Невиле. И наконец – об Эдуарде Мане. Об импрессионистах («эмпрессионалистах») чаще всего упоминали скопом («Моне и другие»). Имена Курбе, Домье и Милле в переписке русских художников 1870-х годов почти совсем не встречаются.
При посещении Салонов, увешанных снизу доверху тысячами картин, в сознании приезжего, естественно, отлагалось прежде всего то, что эти картины объединяло, – черты их фамильного, то есть национального, сходства. Лишь постепенно восприятие становилось дифференцированным. Не всегда пребывание русского художника во Франции было достаточно длительным, а знакомство с ее культурой – достаточно основательным, чтобы успеть перейти в эту стадию. Начальная стадия, однако, тоже имела свои преимущества, так как чем дальше заходит дифференциация, тем труднее восстанавливается образ общего; если в первый момент видят лес и не различают деревьев, то потом уже начинают за деревьями не видеть леса.
Молодой Репин жил в Париже в 1873–1876 годах – в самое горячее время импрессионистского вторжения в искусство. Несмотря на крайнюю импульсивность Репина и склонность быстро менять суждения, его высказывания этого времени и любопытны, и характерны.
В 1873 году он пишет Крамскому:
«…Французов же не догнать нам, да и гнаться-то не следует: искалечимся только <…>. Да, много они сделали и хорошего и дурного, тут уж климат такой, что заставляет делать, делать и делать; думать некогда… им дело подавай сейчас же: талант, эссенцию, выдержку, зародыш; остальное докончат воображением <…>. Давно уже течет этот громадный поток жизни и увлекает и до сих пор еще всю Европу. Но у меня явилось желание унестись за много веков вперед, когда Франция кончит свое существование – от нее не много останется, т. е. очень много, но все это дешевое, молодое, недоношенное, какие-то намеки, которые никто не поймет. Не будет тут божественного гения Греции, который и до сих пор высоко подымает нас, если мы подольше остановимся перед ним; не будет прекрасного гения Италии <…>. Ничего равносильного пока еще нет здесь, да и вряд ли будет что-нибудь подобное в этом омуте жизни, бьющей на эффект, на момент. Страшное, но очень верное у меня было первое впечатление от Парижа, я испугался при виде всего этого»11.