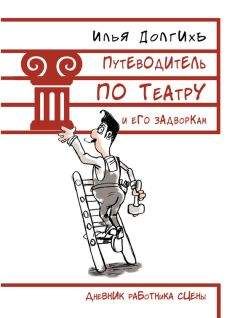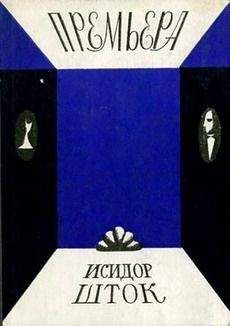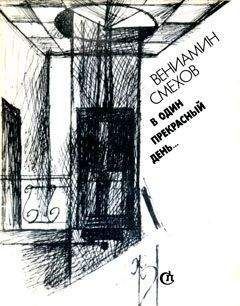Михаил Буткевич - К игровому театру. Лирический трактат
"Король Лир" такая же тихая трагедия, как и "Ромео и Джульетта", и по той же причине. В первой скрывается и подвергается преследованию взаимная любовь юноши и девушки, а во второй — любовь дочерняя и в более широком смысле любовь к ближнему, любовь к правде".
Нет, вы только послушайте, что говорит о трагедии в целом этот прекрасный наш поэт! Какая глубина понимания и какая современность прочтения:
"В "Короле Лире" понятиями долга и чести притворно орудует только уголовные преступники. Только они лицемерно красноречивы и рассудительны, и логика и разум служат фарисейским основанием их подлогам, жестокостям и убийствам. Положительные герои трагедии — глупцы и сумасшедшие, гибнущие и побежденные".
А представьте, какое впечатление произвели эти необычные слова на моих ребят.
Происходило это на интимной вечерней репетиции, когда не было всего курса, когда не было ни сцены, ни зрительного зала, даже в отсутствии зрителей, провоцирующих любого артиста на актерскую показуху, когда мы намертво вымотались за целый день напряженнейшей работы. Нам досталась на этот раз неважнецкая аудитория, обшарпанная и неубранная, тесно заставленная учебными столами и стульями.
У студентов не было сил не то что вымыть полы, но даже расставить по стенкам столы, а у меня не было сил заставить их сделать все это. Мы устало уселись вокруг одного из столов и тупо глядели друг на друга: казалось, ничто на свете не может подвигнуть нас на так называемый творческий труд.
— Не будем сегодня себя насиловать, — сказал я, — вставать, ходить, кричать. Прилягте на стол, вповалку, кучкой, поближе друг к другу, еще ближе, обнимитесь.
А. Ф. Кистов (...) был последний настоящий провинциальный трагик, закончивший свои дни в Минской русской драме. Мне посчастливилось видеть его в роли Лира несколько раз на московских гастролях театра. Это был лев, истинный лев высокой театральной патетики. После смерти артиста кто-то из общих знакомых рассказал мне о нем забавный анекдот, трагичный и смешной, трогательный и величественный одновременно.
Он относился к Лиру, своей коронной роли, с величайшей ответственностью и тщательно готовился к каждому выступлению в ней. Способы подготовки были самые разнообразные, но перед сценой бури он обязательно подходил к огромной круглой печке, оставшейся в кармане сцены от старых времен без употребления по назначению, опирался на печь руками и начинал ее расшатывать. Накачивал себя таким образом перед выходом на сцену. Так было всегда в Минске. Злые языки даже поговаривали, что без печки он играть просто не может, поэтому в Москве, где печки нет, играет намного хуже. Лира он играл на протяжении многих лет, и вот однажды печь не выдержала — упала и развалилась. Суеверный артист был в ужасе, крушение печки показалось ему концом света, уж во всяком случае — концом актерской карьеры. Он стал играть все хуже и хуже. И в скором времени умер.
Хоронил своего кумира весь город.
Ощутите близость другого человека, по-платоновски ощутите, проникновенно. Ведь есть же что-то такое, что вас связывает, именно вас. Четыре прошедших сессии. Расставания и встречи. Совместная работа в. импровизациях, в этюдах, в отрывках. Радость общих удач и печаль провалов. Володя, коснитесь колиного плеча. Витас, прикройте собою Капустина — от грозы, от беды, от атомной войны; согрейте его. Миша, Миша! не выходите из игры, не выпадайте из команды, не уединяйтесь, не уходите в себя; попробуйте хоть раз приклеиться к товарищам по судьбе. Помолчим вместе... Прошла минута. Другая. Я наклонился к ним и зашептал:
— Тишина и внимание к братьям: чувства обострены до предела — зрение, слух и, главное, осязание. Затем дыхание. Прекрасно.
И тут меня неожиданно посетило вдохновение, я затоковал:
— Будем репетировать сегодня как будто в кино. Крупным планом. Представляете: вся шалашовая сцена — один крупный план. Вы лежите на столе, а я — съемочная камера, вас снимаю. Нормально? Нормально! Будем работать на микродеталях: моргнул, скосил глаза, коснулся чужой щеки пальцем и она стала близкой. Микшируем до предела звук: пусть вздох в этой тишине, легкий, легчайший вздох звучит, как гром, пусть слово только чуть-чуть тлеет, чуть теплится под золою молчания. Пафос тут груб и неуместен. (В этот момент я и процитировал им Пастернака.) Главное — душевное взаимопроникновение. Поехали!
Сделали еще раз и получилось еще лучше — наверное, человеческие силы и вправду неисчерпаемы.
Вы видите, как возникает смысл, причем, учтите, сам, сам возникает: душевная близость без балды возможна тут и главным образом тут, в заброшенном шалаше, в дождливую, холодную ночь, такую бесконечную и такую невечную.
Смотрите, что у нас получается: резкое сопоставление социальных уровней — начало в королевском дворце на самом верхнем уровне, а завершение здесь, на дне бытия, в резервации положительных героев, чуть ли не на лагерных нарах. И обратите внимание: чем выше, тем все разъединеннее, формальнее, пустее, чем ниже — тем сплоченнее и духовнее. В этой сцене мы открываем магистральное движение спектакля — сверху вниз. Спустившись в народные низы, Лир открывает для себя новую жизнь и нового, настоящего человека.
— В шалаше возникает главный — настырный, неотвратимый вопрос:
ЧТО СТАЛО С МИРОМ?
Отсюда, от этого вопроса: восприятие, восприятие, восприятие. Проживать все, что возникает на сцене — ловить каждую деталь в партнерах, в атмосфере и... в зрительном зале во время спектакля.
Прорвавшись из окружающей тьмы, в шалаш просунулся граф Глостер. Его доброе и обеспокоенное лицо повисло и закачалось рядом с лицом Лира: "В каком вы низком обществе, милорд!" Эдгар, испугавшись, что отец узнает его, отодвинулся в тень и спрятался за маской сумасшедшего Тома — задергался, стал подпрыгивать на месте, подвывать измененным голосом и понес, понес свою вещую ерунду. Глостер докладывал королю печальные новости, а сам слушал взвизгивания нищего психа, слушал и не мог оторваться; что-то в этом голосе беспокоило графа, но что? — по лицу его полосами, как тени, пробегали недоумение и настороженность. Очнувшись, стряхнув с себя остатки этого сна наяву, граф заговорил о более подходящем пристанище для короля, о находящейся поблизости ферме...
И шалаш внезапно разрушился.
Услышав слово "ферма", артисты, из которых был выстроен шалаш, словно взбесились. Долго назревавшее недовольство нищих перешло в озверение, на этот раз уже в буквальном смысле. Они закричали "Ферма! Ферма!" и начали превращаться в скотов; становились на четвереньки и блеяли, приставляли ко лбу рога из торчащих пальцев и мычали, мычали, мычали. Бывшие Гонерилья и Регана недоенными коровами истошно ревели в своих портальных нишах; к ним присоединились два огромных быка, бывшие герцоги, а по сцене с ревом и топотом металось растревоженное стадо...
В стороне от всеобщей толкотни, лицом на зал, перегнувшись пополам и прислонившись одним плечом и щекой к порталу, безвольно уронив одну руку вниз (и рука сразу же стала передней коровьей ногою), другой рукою лениво помахивая у своего зада развязанным галстуком, как хвостом, стоял и тупо жевал жвачку тощий "англичанин". Он жевал свой чуинггам неторопливо и равнодушно, пускал резиновые пузыри, вывешивал изо рта резиновые нити тягучей коровьей слюны и рассматривал публику долгим, неотрывным и безразличным взглядом, изредка отгоняя мух механическим взмахом головы. Лицо его медленно превращалось в морду. Этот маленький актерский шедевр заставлял нас видеть несуществующие стойла и ясли, кучи сена по углам сарая, вызывая в нашей памяти невозможные для театра запахи навоза, парного молока и мокрой осенней соломы...
Коровы и быки бестолково топтались на сцене, а бесстрашный английский распорядитель самоотверженно отгонял их в глубину, стараясь навести порядок. Это была нелепая и смешная картинка типично городского чистоплюйства, орудующего на скотном дворе. Денди быстро и бескровно победил: не успели еще завернуть очередного Лира в красный плащ и усадить его прямо на полу партера, прислонив к передней стенке сцены, не успел еще раздеться и прилечь к Лиру на колени очередной Том, а в коровнике был уже наведен полный порядок. Все коровы тихо стояли в стойлах, подровняв свои зады в прямую линию параллельно рампе, лениво жевали, отвернувшись от героев трагедии, и только размеренно помахивали на них хвостами, состряпанными на скорую руку из шарфов, веревок, брючных ремней и прочих длинных вещей. На полу перед сценой, справа и слева, боком к нам, мордами в середину, стояла коровья элита — две породистые волоокие буренки, бывшие герцогини. Они словно бы пробрались сюда, притворившись коровами, чтобы наблюдать агонию изгнанного отца. Актрисы, скорее всего, даже и не помышляли об этом, но остаточные страсти недоигранных сцен еще бурлили в их подсознании, требовали выхода. Да и мы, зрители, узнав их в коровьей массовке, не могли отказаться от соблазнительной возможности дожать, достроить до конца систему взаимоотношений случайными совпадениями и невольными ассоциациями.