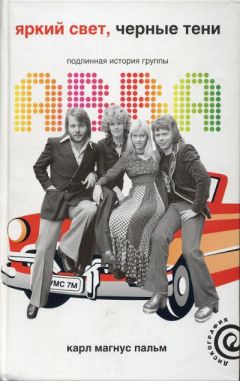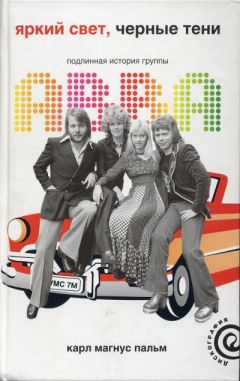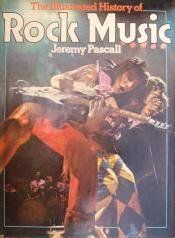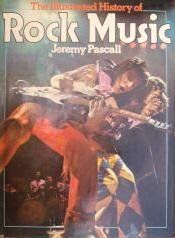Евгений Осетров - Живая древняя Русь. Книга для учащихся
Такого рода условности существовали и в древнерусской литературе. Писатель должен был сообщить о герое лишь важное, существенное. Введение в повествование, например, окружающих бытовых подробностей противоречило бы тогдашнему литературному этикету, снижало бы ореол святости героя, его духовность и величие.
Иным был и средневековый читатель.
«Каждое произведение Древней Руси рассчитано не на обычное, беглое чтение, а на прилежное „книжное почитание“ в поисках книжной мудрости и книжного наставления, — пишет Д. С. Лихачев. — Если бы можно было представить себе древнерусского читателя за чтением его любовно переписанных от руки книг, то, наверное, это чтение было особенно истовым, торжественным и благоговейным».
Не случайно на старых книгах встречаются записи: «Горе тому, кто черкает у книг по полям, на том свете бесы исчеркают ему лицо железом»; «Эту книгу ни продати, ни отдати нельзя»; «Аще где криво написал, то не кляните меня, грешного раба…» Читатель книг ощущал себя приобщенным к вечной мудрости мира; создателями сочинений, как правило анонимных, выступали люди большой художественной культуры, искренно заботившиеся о судьбах своей Родины, мыслившие во вселенских масштабах.
Выдающееся произведение — «Повесть временных лет», определившее на много веков исторические представления наших соотечественников, поражает своей грандиозностью, сплавом достоверных фактов с очаровательными народными легендами. Составленная из разножанровых отрывков, созданных в несхожие эпохи, она — единое художественное целое, включившее в себя сведения о жизни страны, войнах и разорениях, характеристики князей, похвалы героям, плачи о погибших, дипломатическую и придворную хронику, сказания о чудесах, назидания потомкам. И все это — в непринужденной форме, поразительно емкой и лаконичной.
В свое время друг Пушкина П. А. Вяземский писал с горечью: «Наш язык не приведен в систему, руды его не открыты, дорога к ним не прочищена. Не всякий имеет средство рыться в летописях, единственном хранилище богатства нашего языка, не всякий и одарен потребным терпением и сметливостью, чтобы отыскать в них то, что могло бы точно дополнить и украсить наш язык». Конечно, в словах Вяземского есть доля полемического преувеличения. Бесспорно одно, что и поныне летописи, сказания, жития, «хождения» остаются кладовыми словесных сокровищ, запасниками, в которых таятся сюжеты и образы большой художественной силы.
Древнерусский писатель мыслил государственно. «Нам Русская земля, что младенец для матери», — говорил летописец, высказывая свои самые заветные мысли и чувства. Нельзя без душевного трепета читать «Слово о погибели Русской земли», опубликованное сравнительно недавно — в конце прошлого века. За семьдесят лет после открытия «Слова о погибели…» напечатано свыше 150 научных работ, ему посвященных. Уже одно это говорит само за себя!
В научной печати есть сообщения не только о том, как оценивается «Слово о погибели…» в нашей стране, но и о том, как воспринимается это произведение за рубежом.
Радзивилловская летопись. Конец XV в.
Немецкий ученый Филипп Вернер написал, что для него «Слово о погибели…»— это солнечный гимн, в котором автор воспевает красоты своего Отечества, а затем оплакивает исчезнувшее могущество государства. Филиппу Вернеру «Слово о погибели…» представляется единственным в своем роде произведением европейской литературы, где объект поэтического вдохновения не индивидуальным герои, а само государство.
В комментариях к французскому переводу «Слова о погибели Русской земли» говорится, что этот «прекрасный фрагмент» замечателен своим ярко выраженным патриотическим чувством и нужно дойти до Петрарки, чтобы найти в западноевропейской литературе гимны идеальному отечеству, которые по силе выразительности можно было бы сравнить с русским памятником. В другой статье «Слово о погибели…» именуется «маленькой Илиадой».
…Я вхожу под своды Смоленского собора московского Новодевичьего монастыря. Все в этом здании дышит мужеством и суровым величием — недаром собор был сооружен в честь освобождения старейшего русского города Смоленска из-под власти княжества Литовского. Архитектурный облик, настенные росписи, огромнейший иконостас, украшенный золоченой виноградной лозой, создают настроение триумфального величия. Я внимательно приглядываюсь к одной из старинных икон, изображающей прекрасных юношей, опирающихся на мечи. Читаю лаконичную музейную надпись: «Борис и Глеб. Работа русских мастеров конца шестнадцатого века. Вклад царя Бориса Годунова (1598–1605). Оклад 1605 года».
Радзивилловская летопись. Конец XV в.
Потемневшая икона, полузакрытая дорогим окладом, ее смысл и красота не сразу становятся доступными. Сначала в облике юношей бросается в глаза отрешенность от всего житейского, земного, готовность к самопожертвованию и аскетизм. Потом замечаешь, что один из юношей совсем еще отрок, в мягких чертах его, несмотря на внешний аскетизм, угадываются доброта, простодушие, доверчивость. В облике второго преобладают решимость, самоотречение и печаль. На юношах богатые княжеские одежды.
Борис и Глеб не только исторические личности. Первые русские святые, признанные византийской церковью благодаря энергичному настоянию Ярослава Мудрого, они стали литературными героями созданных в древнейшую пору житийных произведений. Еще в 1015 году была написана летописная хроника об убийстве их Святополком, затем появились «Сказания и страсть, и похвала святым мученикам Борису и Глебу» и, наконец, «Чтение о житии и о погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба».
Я ничуть не удивился, увидав на иконе князей-мучеников в московском соборе. Мне приходилось встречаться с героями древнерусского сказания в забайкальских степях, на берегах Днепра и Северной Двины, в Киеве и Москве. В Третьяковской галерее есть две иконы, запечатлевшие юных русских князей. На одной из них, датируемой 1340 годом, Борис и Глеб изображены на фоне горок едущими на разномастных конях. Другая, написанная в четырнадцатом веке, особенно интересна клеймами, иллюстрирующими историю жизни и гибели Бориса и Глеба. Наконец, во Владимирском храме в Киеве М. В. Нестеров в конце прошлого века написал трогательные фигуры Бориса и Глеба на фоне мягкого русского пейзажа, подчеркнув в образах юношей красоту и одухотворенность. Борису и Глебу посвящены многие храмы, их именами названы селения, об их драматической судьбе пели стихи калики перехожие, заставляя слушателей плакать.
Мне вспоминается заснеженное село в приокской пойме под Муромом — Борис-Глеб. Лошадь, помнится, с трудом тогда тащила сани по рыхлому снегу, и на крутых подъемах мы с возницей подталкивали повозку, иногда приподнимая мокрые полозья.
Георгиевский собор Юрьева монастыря в Новгороде. 1119 г.
Η. Κ. Рерих. Никола.
Крестьянин говорил:
— Проедем Борис-Глеб, дорога там полегче пойдет.
Имена князей, живших в одиннадцатом веке, звучали в устах крестьянина привычно и по-домашнему просто. Я был тогда в возрасте Глеба и наивно спросил: «А кто они такие — Борис и Глеб?»
Возница удивился:
— Неужели не знаешь? Борис в Ростове княжил, а Глеб у нас в Муроме… Зарезал вьюношей Святополк Окаянный, ни дна ему, ни покрышки.
Так рассуждал муромский крестьянин, ходивший в детстве в церковноприходскую школу…
Борис и Глеб стали символом страдания за дело правое, вот почему так много церквей воздвигнуто в бескрайних русских просторах во имя этих святых.
Убогость соломенных крыш
И полосы желтого хлеба!
Со свистом проносится стриж
Вкруг церкви Бориса и Глеба, —
писал Валерий Брюсов.
Не должны ли мы задуматься, почему на протяжении столетий эти образы волнуют самых разных людей, находят отзвук в их сердцах?
Сказание о Борисе и Глебе, сохранившееся до наших дней в десятках списков, написано с большой художественной выразительностью. Когда неискушенный читатель пробивается сквозь известную условность формы, то он попадает в мир света и добра, олицетворением которого являются образы Бориса и Глеба; свету и добру резко противостоит мир тьмы и зла — князь Святополк и его слуги.
Древнерусский автор всем сердцем переживал события, положенные в основу повествования. Отсюда лиричность и напряженный драматизм сцен, им созданных. Подговоренные Святополком, убийцы подходят к шатру, где ждет их приготовившийся к смерти Борис: «И вот напали на него, как звери дикие, из-за шатра, и просунули в него копья, и пронзили Бориса, а вместе с ним пронзили и слугу его, который, защищая, прикрыл его своим телом. Ибо был он любимец Бориса. Был отрок этот родом угрин, по имени Георгий. Борис его сильно любил, и возложил он на него гривну золотую большую, в которой он и служил ему. Убили они и многих других отроков Бориса. С Георгия же с этого не могли они быстро снять гривну с шеи, и отсекли голову его, и только тогда сняли гривну, а голову отбросили прочь…»