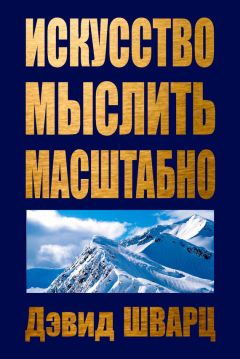Ив Бонфуа - Невероятное (избранные эссе)
С этой точки зрения, историку литературы стоило бы подойти к исследованию французской поэзии по-другому: не описывая, как обычно, длинную цепь влияний или предположительный смысл того либо иного мотива, а воспроизводя напряжения, которые противопоставляют или диалектически связывают предугадывание яви и предопределенность понятия… Тот же Рембо, мечтавший в своем «бреду», в этом отказе от понятийных отождествлений, увидеть на месте фабрики мечеть{140}, а на дне озера — гостиную, то есть, сквозь всегда равное себе разглядеть иное, — в «Брюсселе», мгновение увидев мир напрямую, наконец, восклицает: «Это слишком прекрасно!», читай: «Это слишком явственно!» Поэтическая новизна в любую эпоху начинается с подобного взлета, освобождающего предметы от обносков риторики. Поэзия и вправду опережает действие{141}, потому что она — та сила, которая рушит и восстанавливает понятия, руководящие действием.
Но поэзия, рожденная «ужасом», французская поэзия — сама по себе в первую очередь действие, и вот в каком смысле. Во-первых — и как раз потому, что абсолютный взгляд приближает ее к яви, — нашей поэзии нет нужды эту явь растолковывать, выражать ее с по мощью тех или иных мифов, у нее нет на это времени: она обязана ее прожить. Именно этим усилием она, окруженная «ничтожествующими» вещами, и пытается удержаться в свете бытия, чтобы сплавить слова с судьбой поэта. По-моему, перед стихами, если они пишутся на языке сущностей — таком, как французский, — всегда стоит неотложная задача: создать или восстановить тот подспудный, внепонятийный строй мира, в недрах которого жизнь поэта станет самой явью, выверив аналогии{142}, развеяв непрозрачную видимость, снова найдя дорогу, ведущую вглубь. Поэзия имеет дело с опытом отрывочным, бессловесным, но именно из него заструится энергия, которая способна воссоединить — и открыть навстречу неисчерпаемому свету — самые важные, заново ожившие слова. Подлинный предмет у стихов один: существование, вновь обретающее форму, — быстротечность, преодолевающая отмеренный срок. Что же касается лингвистических значений, то в рамках этого великого замысла ясно видна их сомнительность. Не спорю, иногда автору стихов и впрямь удается передать впечатление, выразить мысль. Допустим, за этим даже можно различить его желание описать существующее и рассказать о человеке. Но разве об этом ведут речь стихи? Дело поэта — с помощью того или иного вкуса напоминать другой, более глубокий, вкус искомого единства. Вызывать с помощью земного плода этот высший из плодов. Любить, а значит отрекаться — очищаться — ото всего, что играет на руку небытию. Поэзия — это клятва верности, которая распространяется и упрочивается связующей силой речи. Ее цель — соединять: так строитель отбирает камни и, конечно, умеет оценить их достоинства, даже что-то сказать о них, вероятно, наобум, но главное для него — то безмолвие, откуда ему уже различим завтрашний порог.
И подобно строителю, который насыщает местность, поначалу абстрактную, приметами нашей жизни, — поэт, возвращаясь к древним началам слова, основополагающему акту речи, и возводя строку за строкой, обогащает Явь, чтобы вернуть самым скромным реалиям смысл и место в Мироздании. Любят повторять, что английская поэзия «начинает с блохи и кончает Богом». Что же касается французской, то она, я бы сказал, идет в обратном направлении и начинает, если удается, «с Бога», чтобы кончить любовью к самомалейшей из вещей.
XIV
Я не хотел бы ставить здесь точку, поскольку предвижу некоторые возражения.
Во-первых, те из читателей, кто следовал за мной до этого места, должно быть, удивлены определением поэзии, где, как может показаться, упущено именно то, с чего я, на этих же самых страницах, начинал: отвращение и недовольство Рембо и Бодлера, чьи чувства разделили бы многие и многие поэты, которые тоже мучились, временами сомневались, а порой и отчаивались. Что значит это единство с миром, эта «поэтически обжитая» земля{143} перед презрением Виньи, вечным бегством Верлена, жуткими криками Антонена Арто? Когда Бодлер, уже пораженный афазией, был доставлен в Париж и увидел пришедшего на вокзал Асселино{144}, он разразился долгим пронзительным смехом, от которого Асселино похолодел. И что же, этот хохот — вместе с богохульствами последних месяцев — и есть та превосходящая речь полнота, которую, в моем понимании, по праву заслужил наш, вероятно, лучший поэт? И если французский язык даже в самой своей — такой отпугивающей — привязанности к сущностям владеет, вопреки всему, этим ключом к идее сакрального, идее строя, то как случилось, что именно наша страна подарила миру самых «проклятых» поэтов?
Боюсь, я и в самом деле недостаточно подчеркнул — и не только» сказанном выше (это можно сейчас исправить), но и в нескольких других случаях, — что в таком приближении к единству нет, увы, ничего идиллического, ничего заранее данного, ничего, позволяющего даже мечтать об освобождении от неподлинного существования, ничего, позволяющего довериться грезам. Вбирать реальность в себя не значит сторониться того, что мешает жизни: наш долг — сводить это на нет или преображать, и зачастую огонь в подобной непослушной материи никак не разгорается, тем более что наше отчуждение от мира тесно переплетено с отчуждением других, а значит, нужно прояснять то и другое разом — задача, по-видимому, неисполнимая. Сколько бы облегчения ни приносила поэзия, она не имеет ничего общего с успокоенностью. Чего бы она стоила, скажем, без чувства человеческой общности, без требования справедливости для всех? И для чего тогда задает себе вопросы о загадке зла, ее собственным разумением не разрешимые? Это очевидно у Рембо, когда он пишет: «Я и в спасении хочу сохранить свободу»{145}. Понимай: право отстаивать мои ценности — равенство, справедливость — даже в переживании самой Яви. Об этом противоречии — творчество Гюго здесь лучшее подтверждение — не легко забыть, если имеешь дело с языком, где всеобщее предстает во всеобщности и права, и самого бытия. Во французском нет настоящих слов для зла — только абстрактные, уже рационализирующие его вокабулы. Но реальность зла ощутима от этого только острей. И для пишущего по-французски она может стать преградой на пути к счастью.
По-моему, точней других нашу поэзию в ее неожиданной глубине, но трудном росте, можно определить словом контражур — скрытый свет. Потому что свет, о котором я говорю, у нас находишь в самых мрачных стихах, где все-таки есть «трепет скрипок»{146}, есть «дни детства»{147}. Но между им и нами, отбрасывая на нас свою тень, по-прежнему высится мир, расщепленный мыслью мир зла, и в этой-то полутьме нам предстоит сбиваться с дороги, впадать в раздражение, так что строй мира будет одновременно воздвигаться и рушиться, а мы, конечно, снова и снова — зачастую этого не скрывая — упорствуем в своей надежде. «Где света нам найти{148} для слякотных небес?» — спрашивает Бодлер. Рембо подхватывает: «И на рассвете, вооружась горящим терпением{149}, мы войдем в потрясающие города». Метафора духовной зари{150} часто встречается у французских поэтов. Она отсылает все к тому же проблеску, тому же востоку нашего языка. И пусть этой заре нечасто дано преображаться в истину полдня, разве что в грезах — или измышлениях? — поэтов, но иногда ей все-таки выпадает случай узнать себя вот в таких, более горячих лучах скрытого света, в багряном закатном огне.
XVИ второе: о том, что названо в начале неустранимым заблуждением стихов. Читая предыдущие страницы, кто-то решит, что я упустил это заблуждение из виду или считаю французскую поэзию от него свободной. Это не так. Я бы даже сказал, что нашему языку впасть в подобное заблуждение куда проще, чем многим. И вот почему. Если в используемых нами словах и вправду заключена эта всегда открытая возможность приблизиться к яви, эта великая надежда, то как раз по этой причине нам легче других а упоении довериться слову, забыв о непременной критике своего подхода к вещам. Иначе говоря, без особого труда называя дерево деревом, мы рискуем обмануться его бедным или, в любом случае, абстрактным образом, способным донести до пространств абсолюта лишь одну из видимых сторон дерева — единственное, что, при таком отсечении, сохраняется от предмета. Но тогда и Явь представляется сознанию только сказочным разворачиванием этих видимых граней, расточением этих мраморных богатств. Теперь она — только внешний декор, в котором отсутствует как предмет, так и Я, — и потому немедленно вырождается в условность, ту же риторику, хоть и под иным обличьем. Именно этим обманывается Ромео, считая себя влюбленным в «прекрасную» Розалинду, символ видимости, воображаемого, а не пережитого, предмета, замещенного мифом. К счастью, рядом с ним — само воплощение английского языка, Меркуцио, напоминающий о долге перед тривиальным».