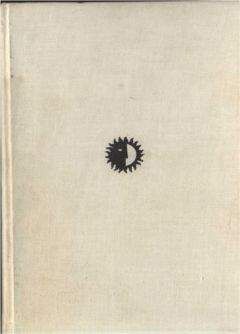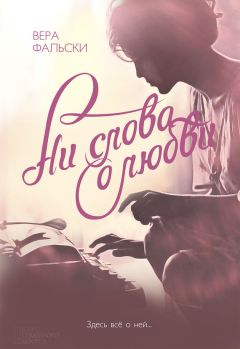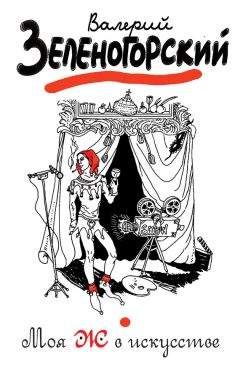Вера Домитеева - Врубель
У Александра Михайловича Врубеля отлегло от сердца. Всю весну в сообщениях харьковских и центральных газет о столичных выставках родня безуспешно искала имя Михаила Врубеля, удивляясь отсутствию его работ на экспозициях, пытаясь что-то разузнать окольными путями. И наконец-то «приятное известие — письмо Миши из Киева».
«Он действительно, — с облегчением узнал отец, — работает там над реставрацией какого-то храма XII столетия. Работа весьма почтенна, интересна и хорошо оплачена — за каждые 24 дня работы, от 6 часов утра до 12 и от 2 до 6 часов вечера — 300 рублей. Работа продлится по уведомлению Миши 76 дней. Следовательно, он пишет, в эти три месяца я обеспечу себя на всю зиму».
Особенно порадовало отца, что его нервный сын «как будто пришел в себя, оторвался, как он говорит, от психологии, — (той самой, надо полагать, которая обрывочно зафиксирована в углу холста „Гамлет и Офелия“), — и слава, слава Богу!».
Самая крупная и свободная роспись Врубеля в Кирилловской церкви — написанное на коробовом своде хоров «Сошествие Святого Духа на апостолов». Изображен момент, когда в пятидесятый день после распятия Христа на учеников его сошел Святой Дух, после чего они, познав неведомые языки, отправились проповедовать христианство по всей земле.
Чрезвычайно своеобразная, часто поражающая зрителей, по остроте вполне созвучная нынешним жанрам фэнтези, композиционная идея придумана не Врубелем. Схема ее — полукруг апостолов, чьи золотые нимбы соединены с эмблемой Святого Духа зонтом лучей наподобие связки воздуходувных шлангов, — древневизантийского происхождения, а конкретно взята с рисунка на чеканном складне из старинного тбилисского армяно-грузинского монастыря. Есть свидетельство, что Врубель при работе руководствовался той же схемой на снимке евангельской миниатюры из кутаисского Гелатского монастыря. Так или иначе, использование данного мотива откликалось, по мысли Прахова, на выявленные археологией в Киеве ощутимые следы кавказской ветви византийского искусства. Византия активно проникала на Русь через Кавказ, православные миссионеры еще до Крещения Руси приходили в Киев, приплывали по Волге в Новгород из Армении и Грузии, оттуда же, естественно, явилось позже и немало монахов-живописцев, так что прообраз достаточно правомерный.
Роспись очень выразительна, хотя восхищаться ее «истинно византийской мистичностью» несколько преждевременно. Пока лишь подступ к византийским духовным мирам.
Скорее в подтексте росписи взаиморасположение художника и профессора, их восторг друг от друга. Так и видится, как Врубель показывает очередной свеженаписанный фрагмент, а Прахов одобрительно комментирует стилизованную, но живую, почти жанровую портретность образов (в качестве критика на страницах «Пчелы» Адриан Викторович был поборником живописного реализма) и предлагает увековечить очередную персону из числа знакомых лиц.
В облике помещенной в центр композиции матери Спасителя черты доброго домашнего друга Праховых Марии Федоровны Ершовой, молодой фельдшерицы, которая, между прочим, потом вышла замуж за одного из художников, работавших в Кирилловской церкви. Апостол, сидящий вторым по левую руку Богородицы, — когда-то преподававший в одесской Ришельевской гимназии и хорошо помнивший юного отличника Врубеля знаток древности протоиерей кафедрального Софийского собора Петр Григорьевич Лебединцев. По правую руку Богоматери вторым изображен сосредоточенно размышляющий киевский археолог Гошкевич, третьим, еще глубже ушедшим в свои думы, — настоятель Кирилловского прихода Петр Орловский, который, не убоявшись спора с менее образованным начальством, сумел разглядеть ценность обнаруженных под побелкой древних фресок и привлечь к ним внимание Русского археологического общества, а четвертым, молитвенно сложившим ладони и воздевшим глаза к небу, — сам Адриан Викторович…
Византийцы, конечно, так не поступали, но почему бы художнику Врубелю не позволить себе дерзость, роднящую с Рафаэлем, запечатлевшим в образах философов своей «афинской школы» лица и личности современников?
Строй византийского искусства открывался постепенно.
Бывали моменты, когда его удавалось прочувствовать почти физически. Например, когда Врубель загорелся написать «Благовествующего Гавриила» по оставшимся на месте фрески процарапанным графьям — когда, укладывая живопись в контуры древнего рисунка, каждым мазком вживался в его ритм.
Апостолы, пророки, ангелы, святители, композиции «Сошествие Святого Духа», «Въезд Господень в Иерусалим» и «Оплакивание тела Христа тремя слетевшимися на его гроб архангелами» — несколько больших росписей и еще полтораста отдельных фигур Врубель создал или восстановил из фактического небытия за свое первое киевское лето.
Конечно, этот немыслимый объем не выполнить бы без артели юных помощников. Толковые, работящие, очень способные (произведения многих теперь в лучших музейных собраниях), они недолго дичились. Подмастерья надивиться не могли на то, как виртуозно работал Врубель.
Монументальное многофигурное «Сошествие» писалось им прямо на стене, без картонов в размер, без какой-либо эскизной композиции, лишь изредка в процессе работы отдельные детали уточнялись набросками на клочках бумаги. Или понадобилось, скажем, написать композицию из двух фигур ангелов на плоскости, перерезанной настилом плотно прижатых к стене строительных лесов. Вызывать плотников, разбирать-собирать доски долго, хлопотно и дорого. Врубель полез наверх и без эскиза, не сделав даже предварительной разметки, написал верхнюю часть фигур, затем, спустившись под настил, отдельно сделал нижнюю. Сам потом, когда леса сняли, удивился, как точно всё сошлось. Подкупал артельщиков и стиль поведения их мастера. Получив деньги, Михаил Александрович устраивал общую обильную трапезу. Не было денег — со всеми жевал употреблявшийся для стирания наносимых углем контуров хлебный мякиш.
К некоторой необычности руководителя артель привыкла, воспринимая оригинальность его художественных приемов или манеры одеваться в естественном единстве. Хотя при первой встрече Врубель мог производить сильное впечатление.
Сговорившись с Николаем Ивановичем Мурашко насчет работы, Врубель и поселился в его доме. Уютно и удобно: пешком недалеко до церкви. Всего-то от Афанасьевской улицы пройти через окраинную лихую Лукьяновку, спуститься в глубокий, заросший репьяками, а потому «Репьяхов яр» и тропинкой по дну оврага, вдоль ручья прямиком до кручи, на краю которой высится Кирилловский храм.
Однажды, подойдя к спуску в овраг, Врубель заметил рисующего подростка и, разумеется, подошел взглянуть. По преданию в Репьяховом яру квартировал когда-то Змей Горыныч, пещеру его там показывают до сих пор. Надо полагать, парнишке показалось, что ему явился некто из свиты Горыныча. «Зрелище было более чем необыкновенное, — описывает эту встречу Лев Ковальский, — за моей спиной стоял белокурый, почти белый блондин, молодой, с очень характерной головой, маленькие усики тоже почти белые. Невысокого роста, очень пропорционального сложения, одет… вот это-то в то время и могло меня более всего поразить… весь в черный бархатный костюм, в чулках, коротких панталонах и штиблетах. В общем, это был молодой венецианец с картины Тинторетто или Тициана…»
А любопытно, между прочим, как Врубель объяснял портным фасоны подобных своих костюмов; сам, что ли, их кроил, как Гоголь свои жилеты? Но зачем нарядился вдруг венецианцем, ясно: необходимость войти в образ, в атмосферу данного этапа жизни и творческих трудов. Что касается периода стилизаций церковного византийского искусства, так не в монашескую же греческую рясу обрядиться. Венеция веками являлась прочнейшей частью Византии, венецианская живопись — плоть от плоти живописи византийской. «Старинный венецианец» в самый раз. А мальчику, которого ошеломил этот наряд, еще выпадет счастье поработать возле Врубеля и поучиться у него, благоговейно сохранить в памяти детали общения со «странным и чудесным» великим художником.
«Михаил Александрович очень всех к себе располагал и внушил уважение к себе всей маленькой артели, работающей под его ближайшим контролем, удивительно умел всегда защищать ее интересы, не задевая моих интересов, как хозяина, — рассказывает Мурашко. — Как истинно интеллигентный человек, уважая себя, он уважал даже самого маленького члена нашей артели. Вечера проводили мирно в моей семье. Как будто сейчас я вижу перед собой балкон, кругом брошенный, запущенный старый сад. За чайным столом несколько молодых людей, группа детей. Михаил Александрович весело, мило шутил со всеми и отправлялся к себе в мезонин. В открытые окна мы слышали или „Ночи безумные“, или „Благословляю вас, леса“ — популярные романсы того времени… Хорошо жилось…»