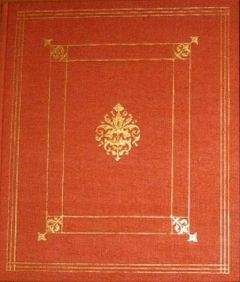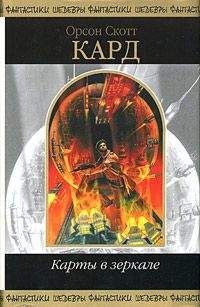Борис Виппер - Итальянский ренессанс XIII-XVI века Том 1
Вершины этого декоративно-дидактического стиля достигает неизвестный автор «Триумфа смерти», грандиозной фрески, служащей главным украшением пизанского кладбища. Опираясь на Вазари, ученые приписывают эту фреску то Орканье, то Пьетро Лоренцетти, то местному пизанскому живописцу Франческо Траини. Но ни одна из этих атрибуций не обладает достаточной убедительностью[22]. Правильней, по-видимому, признать, что мы еще не знаем имени этого крупного мастера, сумевшего из традиций флорентийской и сьенской школы создать такое потрясающее зрелище. Нет никакого сомнения, что идея фрески была навеяна страшной чумой, посетившей Италию в 1348 году. Свою непосредственную тему для воплощения аллегории на всемогущество смерти неизвестный автор заимствовал из популярной тогда новеллы о «Трех живых и трех мертвых». Подобно фрескам Андреа да Фиренце, и здесь одна на другую, в виде декоративной мозаики, нанизан ряд обособленных сцен. Слева группа знатных всадников наталкивается на три открытых гроба, позади которых отшельник Макарий указывает на предостерегающую от тщеславия и гордыни надпись. На правой стороне фрески общество дам и кавалеров, вроде того, которое описано во вступлении к «Декамерону» Боккаччо, собралось на лужайке для светских игр. К этой группе приближается смерть в виде страшной крылатой старухи, косящей представителей всех сословий, в то время как старики, нищие и калеки тщетно умоляют об избавлении от тягот жизни.
Как ни ярко задуманы некоторые сцены, как ни богата изобразительная фантазия художника (обратите внимание хотя бы на жест придворного, затыкающего нос от трупного смрада), но и автор «Триумфа смерти», подобно Орканье и Андреа да Фиренце, не в состоянии добиться живописного единства композиции, находится целиком во власти словесных, литературных представлений.
Мы видим, таким образом, что поколение художников, возглавляемое Орканьей и Андреа да Фиренце, привело живопись к дилемме. Ей угрожала опасность или раствориться во внешних декоративных эффектах, или сделаться жертвой литературной символики, обратиться в дидактическую иллюстрацию.
В последней трети XIV века во флорентийской живописи можно наблюдать любопытное явление: происходит возвращение к более старой, до-джоттовской концепции, своего рода сознательная архаизация. Конечно, это не нужно понимать как огрубение искусства, как упадок. В целом ряде направлений флорентийские живописцы конца XIV века продолжают дополнять и развивать приемы своих предшественников. Но основная, общая концепция явно отличается большей примитивностью по сравнению с Джотто и Орканьей. В чем же сказывается эта архаизация? До-джоттовская концепция картины, как ее можно видеть еще у Дуччо, покоилась на сукцессивности представлений: художник в одной и той же картине изображал эпизоды, которые произошли в разное время и в различных пространствах. Джотто первый попытался вступить в борьбу с этой сукцессивностью повествования. Он сократил количество действующих лиц и ограничил повествование всякий раз только одним кульминационным элементом действия. Благодаря этому повествование стало, правда, значительно более сжатым, но зато насыщенным и концентрированным. Последователи Джотто стали наполнять этот повествовательный скелет, эту сжатую схему все более сложными эпическими реалистическими подробностями, пока, наконец, небольшие, замкнутые сцены Джотто не разрослись в грандиозные дидактические поэмы со множеством мелких эпизодов в творчестве Орканьи и Андреа да Фиренце. Но так как законченность джоттовских композиций была основана не на единстве оптических представлений, а на единстве эпического мотива — иначе говоря, на единстве словесных, литературных представлений, — то художники после Джотто, разрабатывая подробности этой литературной канвы, все заметнее стали терять единство зрительного представления натуры. В композиции «Триумфа смерти», например, нет уже никаких признаков раннесредневековой генетической перспективы, в которой главный герой повторяется несколько раз и в которой пространство раскрывается, так сказать, во временной последовательности. Те эпизоды, которые изображены в «Триумфе смерти», — как встреча с гробами, как вопли нищих, как игры светского общества, — все они могли происходить одновременно, они мыслимы одновременно, но их нельзя видеть одновременно, ибо их связывает не единство пространства, не единство зрительных представлений, а только единство картинной плоскости. На этом пути дальнейшее оптическое завоевание действительности было невозможно. Поэтому и наступила естественная реакция: живописцы конца XIV века вновь вернулись к готическому сукцессивному повествованию, но, как мы сейчас увидим, в новой, более прогрессивной форме.
Второй существенный момент итальянской живописи конца треченто состоял в обмене художественными проблемами между Средней и Северной Италией. До этого времени Северная Италия в истории итальянской живописи играла второстепенную роль. Теперь, к концу треченто, в Северной Италии образовался ряд местных художественных школ, вступивших в соревнование с прежними центрами итальянской художественной жизни — со Сьеной и Флоренцией. В североитальянской живописи, находившейся в постоянном соприкосновении с искусством Франции, Нидерландов и Германии, дух северной готики проявился с гораздо большей силой и, смешавшись с принципами национального итальянского формопонимания, привел к созданию чрезвычайно своеобразного стиля. В шестидесятых и семидесятых годах в Тоскане впервые появляются кочующие североитальянские живописцы, приносящие с собой новые художественные веяния. Такими первыми провозвестниками североитальянских тенденций во флорентийской живописи были Джованни да Милано и Антонио Венециано. Ни тот, ни другой не обладал особенно крупным художественным талантом и потому не мог произвести полного перелома в судьбах флорентийской живописи. Тем не менее в их творчестве заметно проявляются специфические признаки североитальянского стиля, которые должны были оставить свой след в искусстве Тосканы.
С именем Джованни да Милано мы впервые сталкиваемся в 1350 году. В 1365 году он начинает свой капитальный труд — фрески в капелле Ринуччини в церкви Санта Кроче. В 1369 году Джованни да Милано едет в Рим для украшения Ватикана, и с этого момента его след потерян. Напомним одну из фресок капеллы Ринуччини, посвященных жизни богоматери; она изображает «Рождество Марии». Рисунок у Джованни да Милано жесткий, формы и движения угловаты, пространственная схема суха и элементарна, — во всех этих направлениях он далеко уступает и сьенцам и флорентийским «джоттистам». Но у него есть прирожденное чутье реальности, позволяющее ему рассказывать о священных событиях в таких правдивых, интимных тонах, с такими тонкими жанровыми и натюрмортными подробностями, каких мы не найдем даже в сьенской школе. Помимо того, фрески Джованни да Милано гораздо свежее и богаче в колористическом отношении, чем живопись Средней Италии.
Что касается Антонио Венециано, то, как показывает его имя, он, вероятно, явился во Флоренцию из Венеции, хотя его живопись не имеет ничего общего с венецианской. Документами установлено его пребывание в Тоскане от 1369 до 1388 года. Из его работ лучше всего сохранились три фрески в пизанском кампосанто, иллюстрирующие легенду святого Раньери. Одна из них соединяет три последовательных эпизода повествования. В левой, наполовину разрушенной части фрески рассказывается о том, как Христос явился святому Раньери и повелел ему отправиться в Мессину — мы видим корабль, на котором на полных парусах плывет святой. Далее, в Мессине святой Раньери совершает чудо отделения вина от воды, и, наконец, в правой части изображена трапеза, которую пизанские монахи дают в честь святого. Чрезвычайно подробны и реалистическая разработка архитектурных кулис и обилие жанровых фигур (Вазари, между прочим, рассказывает, что в разрушенной теперь части фресок были представлены портреты членов семьи Герардески, как бы провожающих святого). Еще важнее другой живописный момент фресок — активная роль света. Обратите, например, внимание на моделировку паруса светом и на фигуру святого, сидящего в тени паруса, или на размещение света и тени в группе, окружающей святого на набережной. Не трудно видеть, что в понимании световых контрастов Антонио Венециано далеко опередил своих сьенских и флорентийских современников. Для него свет уже начинает приобретать значение, как самостоятельное орудие композиции, начинает оказывать воздействие не только на отдельные фигуры, но и на общее пространственное впечатление. Наконец, следует отметить перемену в самом методе повествований. В известном смысле Антонио Венециано архаичнее, чем Орканья и Андреа да Фиренце в своих приемах рассказа. Он трижды повторяет в одной фреске фигуру святого Раньери, он нанизывает на одну нить повествования событий, случившихся в разное время и в разных городах. Но именно в той широкой пространственной арене, на которой Антонио Венециано разыгрывает свои сцены, и в той непрерывности, с какой одна сцена вытекает из другой и которая подчеркивает общую динамику композиции, сказывается несомненный шаг вперед в сторону мировоззрения Ренессанса. Если Антонио Венециано еще далек от оптического единства пространства, то он, во всяком случае, стремится достигнуть оптического единства движения. Насколько прочный след оставил Антонио Венециано в традициях итальянской живописи, видно из того, что Вазари делает его учителем Паоло Учелло, одного из самых смелых экспериментаторов в живописи раннего кватроченто.