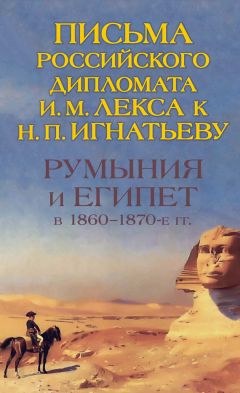Вера Чайковская - Тышлер: Непослушный взрослый
— Вот возьмите. Это от моей библиотеки в Совнаркоме…
Я пошел — и что вы думаете? Нашел! Знаете, что я там нашел? Скульптуру. Да, книги, в которых рассказывалось, что немцы делали раскопки и нашли скульптуру восьмого века. Я воодушевился. И задумал построить весь спектакль на скульптуре. Костюмы бедняков, крестьян, рабов — все строилось на скульптуре. Я всегда делал все сам — и костюмы, и декорации… У меня получилось неплохо. И весь спектакль вышел интересным, значительным»[175].
Можно представить, как Саша Тышлер радовался, что нашлось изображение архаической узбекской скульптуры! Ведь он был мастер «оживлять» древнюю пластику, вдыхать в нее новую жизнь! А архетип «скифской бабы» был важнейшим в его творчестве! И тут он сумел построить сценическое решение вокруг архаической скульптуры, соединив воедино живопись, скульптуру и архитектуру. Важно еще и то, что скульптура человека совпадала с тышлеровской внутренней интенцией: «сосредоточить все в человеке и на человеке»[176].
Премьеру «Муканны», состоявшуюся в 1943 году, Михоэлс не увидел — он уехал в Америку по правительственному заданию — собирать деньги на нужды фронта. Ехал навстречу своей гибели, так как в Америке явно превысил полномочия российского актера, стал «вестником», «пророком».
Я уже писала, что в Ташкенте Тышлер работал над оперой Бизе «Кармен» для русской труппы узбекского оперного театра. Спектакль в конечном счете сыгран не был — Тышлер в 1943 году уехал в Москву, а без него дело не пошло. Но, вероятно, это был плод вдохновения, недаром режиссер оперы Н. Варламов через много лет, в 1957 году, писал ему из Саратова «о своеобразном и оригинальном решении труднейшей для постановки оперы» и о работе, которая «надолго запомнилась»[177]. Видимо, и тут Тышлер проводил свой замысел, а режиссер шел за ним. Метафорическим центром спектакля стала арена, на которой возвышались деревянные скульптуры быков — некая «цитата» из «Кармен» в цыганском театре. И снова Тышлер узнавал себя в сценической ситуации.
Письма, открытки, рисунки, оформление спектаклей — все, что делалось Сашей Тышлером в 1943 году, словно подсвечивается незримым пламенем. Это пламя любви. За ним стоит молодая девушка, интеллектуалка и «книжница», рыжеволосая красавица, с которой он познакомился в Ташкенте. Судя по всему, именно в 1943 году она ответила ему взаимностью, а познакомились в 1942-м. Речь идет о Флоре Сыркиной — имя, которое уже не раз появлялось на этих страницах.
Обычно очень сдержанная в своих описаниях, о спектакле «Кармен» она пишет с воодушевлением: «Романтический образ пронизанной солнцем Испании, темы вольности, любви и рока — все, что заложено в музыке композитора, воплотилось в этих декорациях, в их живописных фонах, в прекрасных народных костюмах „с солнцем в крови“»[178].
В тогдашней ситуации Тышлера и Флоры всего этого — «вольности, любви и рока» было предостаточно. Я уже писала, что в период эвакуации Тышлер рисовал очень мало. В альбоме военных лет есть несколько рисунков 1943–1945 годов, объединенных экспрессивной темой «мольбы»: это и старик-нищий, и воздевшая к небу руки женщина, и крылатая коленопреклоненная женщина-ангел. В это же время он рисует два карандашных Флориных портрета.
Но есть одна «отдельная» графическая работа, помеченная «роковым» 1943 годом и непосредственно связанная с Флорой и с отношением к ней Саши Тышлера. К ней примыкает более поздняя графическая «Модница» (1946), не только навеянная Флорой, но и несущая отпечаток необычной высоты возникших отношений.
Интересно, что даже знаменитая серия карандашных портретов Анны Ахматовой, выполненная Сашей Тышлером за один сеанс в 1943 году, тоже во многом, как мне представляется, «инспирирована» Флорой — она Ахматовой очень интересовалась, ходила в Ташкенте на ее поэтический вечер. И Саша Тышлер сумел продемонстрировать возлюбленной и свое знакомство с поэтессой, и свое блистательное мастерство — род импровизации.
В двух работах 1940-х годов — акварелях «Еврейская свадьба» (1943) и «Модница» (1946) — поражает одна особенность — в них художник и не пытается утаить некий «мистический» подтекст изображаемого, то, что он обычно тщательно «заземляет». Эти работы явно символического плана. Можно сделать вывод, что встречу с Флорой Саша Тышлер воспринял как некое откровение, «знак судьбы». Он Флору особым образом выделил из всех своих женщин. В «Моднице», нарисованной акварелью на картоне и ныне хранящейся в ГТГ, дан некий «правариант» одной из Флориных ипостасей. Она и в дальнейшем будет частенько представать в образах «модниц», пусть и причудливых, но всегда привязанных к житейскому контексту и городской среде. Тут этого контекста практически нет и даже само понятие «модницы» (которой Флора и впрямь была!) достаточно условно.
Перед нами сидящая на стуле, как на троне, в обрамлении с двух сторон раздернутого занавеса, загадочная молодая дама в причудливом одеянии и высоченной шляпе героинь рембрандтовских фантазий. И только изящный башмачок на высоком каблуке, выглядывающий из-под платья, напоминает, что она «модница». Интересно, что Тышлер использует композицию «сцены жизни», когда занавес распахивается в «живую» жизнь с облачным темно-синим небом, небесным светилом (не то солнцем, не то луной) и едва намеченными силуэтами домов-башен. Это и комната, и космическое пространство, и город, и театр.
Такую композицию Тышлер будет впоследствии использовать в серии «Самодеятельный театр», где «декорациями» служит естественная природа вокруг подмостков. Но там этот «ход» заземлен, тут — явно символичен, что подчеркнуто атмосферой тайны и недосказанности — полузатененным лицом прекрасной незнакомки, сверканием складок ее одеяния, которому вторит сверкающий занавес.
Акварель получилась сумрачно-волнующая, предгрозовая, словно Саша Тышлер предчувствует непростую судьбу своих взаимоотношений с героиней. Она ему так же «явилась», как являлся «гений чистой красоты» Жуковскому и Пушкину.
Столь же таинственной аурой окружена акварель «Еврейская свадьба» с посвящением Флоре и отмеченными рукой Тышлера местом и датой — Ташкент, 28 мая 1943 года. Думается, что эта дата отмечает нечто важное в их взаимоотношениях, скорее всего — сближение, которое «освящается» темой акварели — это мистическая свадьба. Кстати, такой же ореол «мистичности» возникает в картине Марка Шагала «Венчание» (1918), где автопортретных персонажей (художника и Беллу) венчает сам крылатый ангел.
Тут обряд совершает громадная, вытянутая почти во весь лист фигура еврейского священника, «рембрандтовского старца»; условные, тоже вытянутые вверх фигуры новобрачных с неотчетливыми лицами стоят под ритуальным балдахином. Эта акварель — скорее некий «мистический знак», чем «произведение искусства», говорящий о нешуточных чувствах и нешуточных намерениях.
Но кто такая эта Флора? История их взаимоотношений обросла легендами, и сами герои старались все держать в тайне. Вплоть до того, что Флора Сыркина даже в каталожных «датах жизни» ни разу не указала, что была женой Тышлера. Но нет там и его детей. Жизнь художника была столь сложна, что они оба постарались оставить как можно меньше свидетельств о своих, тоже очень непростых, взаимоотношениях. Посылая Флоре Сыркиной в начале 1960-х годов написанную по ее просьбе автобиографию, Тышлер признается, что пропустил какие-то важные события — например встречу с ней… Лишь после смерти художника Флора Сыркина, посещавшая Мелитопольский музей на предмет дарения работ Тышлера, кое-что и в самых общих чертах рассказала о их романе местному литератору Авдеенко, и тот впоследствии пересказал это украинской журналистке[179].
Но, повторяю, весь «сок» романа они скрыли, оставили для себя.
Итак, Флора Сыркина. В 1943 году ей 23 года, она на 22 года младше Саши Тышлера, впрочем, всегда выглядевшего гораздо младше своих лет, с чертами «устойчивой юности». В Ташкент военной поры она приехала с матерью. У той в Ташкенте жила сестра, то есть у Флоры проблемы «комнаты» не было. В Москве остался Флорин отец — академик. До войны она поступила в престижный московский институт — ИФЛИ[180] и в 1941 году, когда его расформировали, доучивалась на искусствоведа в МГУ. Повезло! Успела доучиться до начала войны. Были кое-какие художнические склонности. В юности она посещала художественную студию Радакова, потом слушала лекции по анатомии (это уж совсем непонятно зачем). Остался живописный автопортрет, кажется, единственная дошедшая до нас живописная работа, — вполне грамотный и точный. На автопортрете у нее очень красивое, правильное, спокойное лицо и пышные рыжеватые волосы. Внешние приметы облика схвачены. Но для работы профессиональным художником таланта явно недоставало. После войны она поступит в аспирантуру Третьяковки по театрально-декорационному искусству. Станет театроведом, специалистом по сценографии (в чем, безусловно, сказалось знакомство с Тышлером и его работой сценографа).