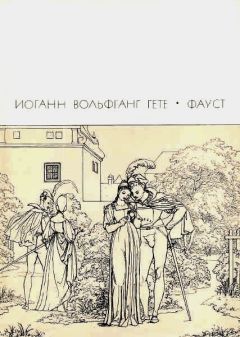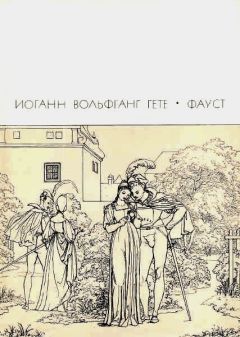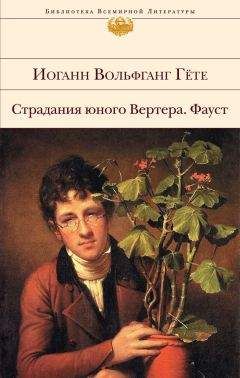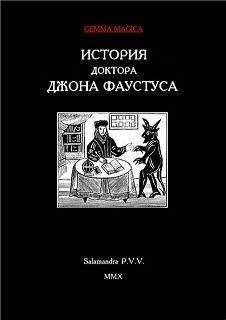Раймон Эсколье - Матисс
Несмотря на отсутствие штриховки, теней или полутеней, я не отказываюсь от игры валеров, от модуляций. Я модулирую более или менее штрихом и особенно поверхностями, которые этот штрих ограничивает на белом листе, не касаясь их и в то же время находясь рядом с ними. Это очень хорошо видно в рисунках Рембрандта, Тернера и вообще в рисунках колористов.
В заключение скажу: я работаю без теории. Я отдаю себе отчет лишь в применяемых мной средствах, и мной движет идея, которую я по-настоящему узнаю только по мере ее развития при работе над картиной. Как говорил Шарден: „Я накладываю краски (или их снимаю, потому что я много счищаю) до тех пор, пока это не станет хорошо“.
При создании картины действует столь же строгая логика, как при постройке дома, если исходить из верных принципов. Не следует заниматься чисто человеческой стороной. Она либо есть, либо ее нет. Если она есть, она, несмотря ни на что, найдет в произведении свое отражение».
ГРАВЮРА И ЛИТОГРАФИЯ
Лучшие качества рисунка Матисса проявляются в гравюре и особенно в литографии.
Анри Матисс создал очень много гравюр. В каталоге, составленном в 1932 году его дочерью, мадам Дютюи, было уже упомянуто четыреста работ (сухая игла, офорты, литографии). Сегодня[358] их можно было бы насчитать более восьмисот.
В 1932 году Клод Роже-Маркс опубликовал в «Print Collector’s Quaterly» глубоко содержательную статью о гравюре Анри Матисса. Тому, кто хочет говорить о Матиссе-гравере и литографе, придется все время обращаться к ней.
Первые его шаги на этом поприще относятся к 1903 году; обычно — это сухая игла. Сначала его модели угловаты, агрессивны; в этот период он избегает изящества и думает только о выразительности. Он яростно набрасывается на металл, иногда просто царапая медь.
Как и все его рисунки, гравюры сухой иглой и офорты были сделаны с натуры, а не с его собственных картин, которым они часто предшествовали. Первая проба сделана при помощи щетки по меди или по лаку; после этого, все так же в присутствии модели, игла прочерчивает в этих набросках главное, то есть несколько линий, обрисовывающих или обнаженную фигуру, пли лицо. «Никакой штриховки, только контуры. Сначала удивляешься тому, что такой колорист отказывается от оркестровки валеров, от модуляции, составляющих главное очарование офорта. Но так же как в живописи он склоняется в основном к плоскостности, точно так же он упрощает свою технику в гравюре, сводя композиции досок, обычно небольшого размера, к отношению объемов…»
Известны лишь две или три гравюры на дереве, выполненные Матиссом приблизительно около 1906 года. Однако начиная с 1905 года он много работает с камнем и линолеумом.
Способ Зенефельдера [359] придает плоть и объем его рисунку. Это, разумеется, не беглые наброски, не этюды, не пробы, не эксперименты, не варианты — это законченные произведения, где тщательно воспроизведена игра валеров, где очищенная от всего лишнего форма всегда мощно очерчена. И хотя одалиски, гравированные на камне, выполнены в черно-белом, у них есть цвет, не уступающий порой цвету их сестер — одалисок, написанных маслом.
Как очень точно отметил Клод Роже-Маркс, многие из этих литографий показывают, что художник стремился передать фактуру самых разных материалов, как если бы он хотел время от времени доказать, что для него нет ничего легче чем «закончить» работу (в том смысле слова, в котором его обычно употребляет широкая публика) и понравиться.
Знаменателен в этом отношении альбом «Танцовщицы», опубликованный в 1927 году, и очень «проработанный» женский портрет, где Матиссу доставляет удовольствие дифференцировать блеск и фактуру самых различных материалов — волос, меха, жемчужного ожерелья, и все это с поразительной тщательностью. Вот что воистину удивляет в его творчестве, носящем обычно столь обобщенный характер.
РЕМБРАНДТ
Отнесем эту магию за счет особенностей черно-белого рисунка. Черное и белое… В конце прошлого века и в начале нынешнего оригинальная литография, которая после долгого забвения, казалось, возродилась из пепла с появлением таких мастеров, как Люнуа, таких художников, как Лотрек, Боннар, Вюйар и Морис Дени, больше всего занималась цветом. Это одухотворенные листы, где цвета переданы легким мерцанием прозрачных тонов, подобных пыльце, что оставляют на пальцах крылья бабочки.
Но Матисс, занимаясь литографией, ищет при работе на камне совсем не гармонии ослепительных и тончайших тонов. Прежде всего, его соблазняет возможность решительно закрепить, пользуясь всей гаммой черного и белого, результаты поисков в графике; запечатлеть извилистую линию арабеска и передать различные ощущения, возникающие у него при виде красивой женщины, украшенной восточными тканями и драгоценностями, среди роскошной керамики и ослепительных цветов.
За целый век до Матисса, и даже до мастера, создавшего «Алжирских женщин»,[360] великий художник Франции, никогда так и не побывавший на побережье стран ислама, Энгр тоже заинтересовался загадочной жизнью одалисок, и они стали для него источниками вдохновения не только в его полотнах, но и в литографиях, техника исполнения которых близка к «одалискам» Анри Матисса.
Любопытно, что оба эти мастера, уделяющие особенно большое внимание арабескам как в рисунках, так и в живописи, придают немалое значение объемам. Как будто оба, несмотря на свои свободные высказывания, не могли не подчиниться требованиям материала. Как будто гравер, из века в век не писавший всуе sculpsit[361] должен был в конце концов подчиниться основным законам ваяния и работать, несмотря ни на что, «массами, как древние»… и как Домье.
Тут, как и в живописи, Матисс стремится следовать примеру великих мастеров прошлого, и прежде всего Рембрандта: «Я говорил себе, что Рембрандту не требовалось пробовать бумагу, для того чтобы определить ее качество; первые состояния рембрандтовских офортов очень интересны в этом отношении — на них обозначено количество листов, которое он ограничивает при печати».
Известно, как ревностно относился Рембрандт ко всему, что касалось бумаги (стоит, например, вспомнить знаменитый оттиск на китайской бумаге гравюры, известной под названием «Сто флоринов»). Не меньшее внимание уделяет этому и Матисс, и по этому поводу Клод Роже-Маркс не преминул сообщить, что печатание каждого оттиска выполнялось с самой великой тщательностью на очень хорошей индийской бумаге под наблюдением или самого художника, или его дочери.
По крайней мере, тут Матисс может без стеснений проявить свою великую любовь к белому, любовь, о которой Арагон так удачно сказал, имея в виду потолок у Матиссов в Симье: «Это белое небо. Это бумажное небо. Белое бумажное небо. Небо Матисса».
Я упомянул о дочери Анри Матисса, той, которую в детстве звали Марго. Маргарита Матисс не просто написала замечательные страницы о литографиях отца, — то, что она очень часто присутствовала при их создании и печатании, делает ее свидетельство особенно ценным. Тот, кто изучает искусство литографии Матисса, должен запомнить ее заключительные строки:
«Ничто не отличает литографии Анри Матисса от его других работ в черном и белом. У него нет ни малейшей склонности к каким-либо профессиональным ухищрениям, изыскам; его не привлекают соблазнительные эффекты, манящие возможности камня и жирного карандаша. Он рисует новыми инструментами — вот и все. Он делает в точности то же, что и простым карандашом на бумаге: перед нами камни, прорабатывавшиеся в течение долгого времени и требовавшие для своего завершения многочисленных сеансов, порой на протяжении долгих лет. Черный цвет на таких оттисках порой насыщался медленно и последовательно, а порой мгновенно светлел, причем резинку заменяли кислота и шлифование пемзой.
Таким образом, при глубоком изучении последовательно выявляются все особенности модели. Поддерживается тесная связь между изображением и белой страницей, когда подразумевается цельность объемов, а черный цвет обретает светоносность. Если результат удовлетворителен, получается цельное произведение, единая глыба без трещин, звучащая полно и ровно.
Прежде всего Матисс сдерживает то, что стремится выйти из-под его контроля, он не дает воли своему воображению. И все же именно в этих долгих поисках возникают внезапно — можно сказать, на одном дыхании — гравюры, где все определено линией или подчеркнуто растушевкой».
Эти восхитительные гравюры, по-видимому, были для художника своеобразной передышкой, перерывом, отдыхом на трудном и большом творческом пути, отмеченном долго вынашиваемыми шедеврами.
«Некоторыми из них мы обязаны тому счастливому мгновению, когда, во время работы над картиной, требовавшей от него крайнего напряжения, художник позволял себе расслабиться. Рожденные в одно из тех мгновений внутреннего освобождения, когда линия как бы ускользает от сознания того, кто ее прочерчивает, и возникает сама по себе, эти гравюры оживают словно в яркой вспышке, придающей значение каждой прямой, кривой или спирали, а объемам, очерченным арабеском, — силу и свет. Равновесием, устанавливаемым между различными компонентами изображения, создается пространство и сцепление планов. Ощущение здесь играет ведущую роль; освещение рождено чувством, трепетом жизни.