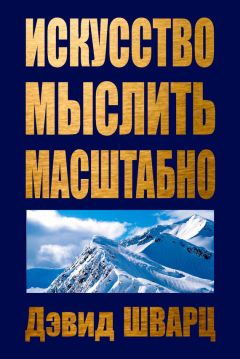Ив Бонфуа - Невероятное (избранные эссе)
Итак, понятийное мышление отвернулось от могилы, и ясно по крайней мере одно: причина здесь не в том, что это мышление направлено на смерть. Есть ли, впрочем, хоть какая-нибудь чувственная вещь, есть ли в мире хоть один камень, от которого понятие не отвернулось? Оно хочет отгородиться не только от смерти, но и от всего, что обладает лицом, от всего, что обладает плотью, внутренним биением, непостижимой, неизымаемой сутью, и потому действительно представляет злейшую угрозу для его скрытой алчности.
Есть ли чувственная вещь, от которой не отвернулось бы понятие? Вспомним те редкие страницы Кьеркегора, где проблескивает совершенно неожиданная, чистейшая радость. В его сочинениях, окрашенных пепельными тонами, такие мгновения поистине ошеломляют. Если было в мире сердце, лишенное земных благ, сердце, отделенное от чувственного предмета бесконечной кружной дорогой, то это, конечно, тревожное сердце Кьеркегора, сознававшего, что ему доступны лишь сущности, что ему не дано выйти из круга общих понятий. Он сражался с системой. Но система неизбежно вырастает из понятия, единственного блага, которым располагал Кьеркегор. Он старался верить в Бога… Его радость всегда была недолгой: мгновенный просвет в небе, вечно затянутом грозовыми облаками. Чтобы этот просвет открылся, надо было воспарять из царства невозможности, где, как нам кажется, мы живем, в иное царство, где все внезапно дарованное, все становится возможным; говоря точнее, надо было — как и теперь — прорывать понятие, эту тучу, подавляющую нас своим гнетом. В понятийном человеке есть какое-то отсупничество, бесконечное отпадение от сущего. Эта измена и стала его тоской, страхом, отчаянием. Но иногда мир встает во весь свой рост, непостижимое наваждение рассеивается, и в единственном миге, словно высшей милостью, изливается все живое и чистое, что есть в бытии. Эту радость приносит прорыв, осуществляемый духом в его стремлении к трудной реальности.
В Равенне, возле ее гробниц, чувствуешь похожую радость. И поэтому я вновь возвращаюсь в Равенну — к источнику света, обретающего значение в себе и через себя. В Равенне ничто не омрачает чистоты этого яркого блеска, без которого, я понял, жизнь была бы просто невозможна, ничто здесь не отвлекает гения могил от роли посвятителя, принадлежащей ему в судьбе нашего духа.
Пусть не покажется странным, что я придаю столь большое значение памятникам, увиденным в одном из городов. Я далек и от желания выстраивать аллегории, и от обычной — впрочем, по-своему таинственной, — склонности к размышлениям над руинами.
Дело совсем в другом: я защищаю некую истину, которая упорно пробивается сквозь истину понятия и которую оно столь же упорно подавляет. И суть этой истины, среди прочего, в том, что любой город, где нам доводится жить, — скажем, та же Равенна, — ничем не хуже философского первоначала и с таким же правом может служить основанием всеобщего. В том, что улицы и камни Равенны не хуже понятийной дедукции и с успехом могли бы ее заменить; что мельчайший осколок любого из камней, лежащих здесь, в неопровержимости своего наличия, служит точнейшим эквивалентом обобщенности понятия. И вот что еще: всеобщее, эту категорию, наиболее полезную для нашего возможного счастья, нужно с начала и до конца открыть заново. Всеобщее не какой-то там закон, который — ради того чтобы оставаться повсюду одним и тем же — по-настоящему не действует нигде. У всеобщего есть свое место. В любом месте, где его ищет взгляд, всеобщее является тем применением, какое можно для него найти. Я думаю о греческой формуле «место истины»{5}, освобожденной от прежнего смысла и соединенной с другим представлением — о том, что при известных условиях я сумею наяву увидеть бодрствующую истину и дорогу, позволяющую к ней прийти. Место истины — это место глубочайшего превращения. Так новый исходный принцип перестраивает опирающуюся на него науку — но в этом случае исходным принципом становится некоторая точка нашего мира: памятник архитектуры, удивительный ландшафт, статуя. Чем иным было такое место в древние времена, если не оракулом, и чем иным остается теперь, если не родиной?
Здесь (место истины — всегда какое-то «здесь»), здесь моя жизнь и реальность мира, прежде безмолвная или недостижимо далекая, соединяются, преображаются, исполняются сил, даруемых полнотой бытия. И высшей красотой — красотой этого места, где я уже не буду располагать собой, покоренный, вобранный в ее совершенный строй. Но вместе с тем я почувствую себя — наконец-то! — глубоко свободным, ведь в этой красоте ничто не будет для меня чужим. Я не сомневаюсь, оно где-то существует, где-то ждет меня, это пристанище, этот вход, ведущий к обладанию бытием. Но сколько людей растрачивает жизнь, так его и не отыскав! Я потому и люблю путешествовать, что любое путешествие — попытка возвращения, поиск, останавливающийся там, где я достигаю места, похожего на предмет моего желания. Тогда во мне пробуждается вечная, израненная религией, надежда, тревожное ожидание голубей, летящих от уже близкого, как кажется, берега. Церковь Мадонны делла Сера{6}, освещенные вечерним солнцем стены Ор Сан Микеле, небольшая площадь перед мавзолеем Галлы Плацидии в Равенне, — попытаемся двигаться отсюда, вслушаемся в беззвучность последнего шага, сделанного предшественниками. Поэзия тоже участвует в этом поиске, она вся устремлена к этой предугадываемой мною точке нашего мира, она находит и открывает нам ту красноречивую реальность, из которой должен забрезжить желанный для нее свет, нигде, кроме этой точки, не проглядывающий… У поэзии и путешествия одна природа, одна кровь (я повторяю это вслед за Бодлером), и из всех действий, на какие способен человек, лишь они, быть может, вполне осмысленны, лишь они имеют цель.
Я уклонился в сторону — если только истина, к которой я взываю, противоречит подобным блужданиям.
Впрочем, я признал достоинство блужданий уже тем, что противопоставил понятию чувственную реальность. Я увидел в Равенне проступающие очертания иного царства.
Почему те или эти линии красивы? Почему, глядя на тот или иной камень, успокаиваешься душою? И поставить-то эти вопросы, а они из числа самых важных, понятие еле-еле умеет. Ответа на них оно не давало никогда.
Но сквозь эти серые каменные скаты, сквозь это бесконечное нагромождение рельефов и стен, то и дело, как феникс, летящий к Гелиополю, взмывает старая тревога. Я не намерен формулировать проблему чувственного в строгих философских терминах. Я хочу только одного: утверждать. Сила голой земли и развалин в том, что они приучают нас считать утверждение главным нашим долгом.
Во все времена, начиная с Парменида, мысль существовала за счет части бытия, считавшейся мертвой, преобладания видимости над сущностью, — за счет того избытка, который получил название чувственного и был признан чистой иллюзией. Поэтому наш дух мечется между двумя гризайлями: его притягивает и однотонная серая картина, рисуемая понятием, и глубокий, жгучий серый цвет горных котловин и ущелий, служащих входом в реальность. Я не могу, да и не хочу выстраивать диалектическую картину мироздания, отыскивать место чувственного в бытии с помощью тонкого и кропотливого искусства метафизики; единственное, на что я притязаю, — это именование. Перед нами чувственный мир. Нужно, чтобы слово, это шестое и самое высокое чувство, устремлялось ему навстречу и разгадывало его знаки. И мне доставляет радость только этот труд: разгадывание загадки, которой уже не существовало для Кьеркегора.
IVОн перед нами, чувственный мир. Если приглядеться, преград, мешающих нам вступить в него, всегда было много. Понятие лишь одна из них. Кьеркегор не единственный изгнанник.
Можно сказать, что этот мир для нас недоступен, как запретный город. Но в то же время можно сказать, что он внутри каждого из нас и открыт для всех. Ничто не помешает по-настоящему пылкой душе отыскать ворота этого города и поселиться в нем навсегда.
Понятийное мышление, но не только оно: еще и представление о каком-то Боге, предписывающем нравственные нормы, еще и власть мрака, который непроницаем для духа и повсюду напитывает собою подделки и фальшивки, нечистые формы, уродливые вещи, — вот главное, что препятствует нашему возвращению.
Величественный город, простой город: наша мысль, со всеми ее ухищрениями и силлогизмами, не в силах до него дотянуться.
И, кажется, он рождается от единого нашего взгляда. Его высокие крепостные стены, стоящие у нас перед глазами (точно так же я говорил бы о внезапно обретенной, открывшейся высшей истине), гармоничны, как линии точно рассчитанной перспективы. Кое-где, примерно на половинной высоте, выступая из стертого, как в армянских церквях, камня, странные прямоугольные рельефы будто пригвождают эти стены к невидимому веществу. Однако за ними, в гостеприимной глубине, находится жизненное пространство. Пустынный город: на вершине реальности остаешься в полном одиночестве.