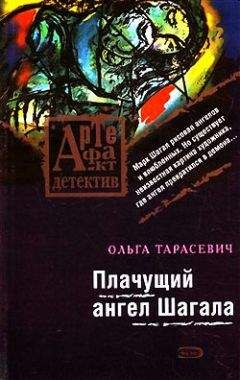Джонатан Уилсон - Марк Шагал
Как и Шагал, Пэн вырос в хасидском окружении, и неудивительно, что во многих его работах отражен быт этой религиозной общины. И хотя он порой делал портреты по фотографиям, все же Пэн предпочитал писать или рисовать с натуры. По большей части его живописные работы — это технически грамотные и крайне консервативные по манере исполнения натуралистические жанровые портреты: «Портрет еврея» (ок. 1900), «Старуха с книгой (Хумаш)» (ок. 1900), «Письмо из Америки» (1903) не представляют собой ничего необычного. И все же нельзя недооценивать его влияния на Шагала, пусть даже в плане преодоления, а не подражания.
«Н-ну… некоторая предрасположенность проглядывает…» — первое, что сказал Пэн матери Шагала, бегло проглядев его портфолио, состоявшее из картинок, перерисованных из журнала «Нива». Шагал хоть и помалкивал, разглядывая работы мастера, но, как он вспоминает, запальчиво подумал о методе мастера: «Это не мое. А как надо? Не знаю». Шагаловский метод, как оказалось впоследствии, предполагал другую подачу и творческое переосмысление хасидской жизни, хорошо знакомой и ученику, и учителю. В подходе к изображаемому предмету Пэн, получивший строгое академическое образование в духе конца девятнадцатого века, почти не отличался от многих других художников, чьи жанровые бытописательские работы были рассчитаны на восприятие со стороны — на зрителя из внешнего мира. Еврейская жизнь, которую Пэн стремился показать, хотя и являлась довольно смелой темой (в Санкт-Петербургской Академии художеств к студентам-иудеям, как правило, относились настороженно и даже неприязненно, и те старались держаться особняком), едва ли повлияла на его художественный метод. На картине «Купание коня» (1910) мы видим хасида, купающего коня, — и только.
Шагал, воспитанный, как и его учитель, в бедной, малокультурной семье, не получивший хорошего домашнего образования (он так и не научился свободно изъясняться ни на одном языке, кроме идиша), взял от своего окружения нечто иное — а именно радостный, народный дух хасидизма. Шагал очень рано начал переносить на холсты философию жизни и манеру речи. Парадоксально, но его работы зачастую представляют собой дословное переложение характерных для его родных мест метафор или оборотов речи, благодаря которым обыденные житейские понятия приобретали выразительность и легкость. Слово «люфтменч» — так на идише презрительно называли человека, погруженного в чисто умственные занятия, — буквально означает «человек воздуха», и Шагал изображает его парящим в воздухе. Шагал пишет свои картины — иными словами, или даже теми же самыми словами, но в ином значении — на идише. Более того, в фольклорных произведениях на идише, даже созданных вне хасидского движения, всегда было полным-полно летающих зверей и всяческих чудес.
Хасидское движение восходит к середине восемнадцатого столетия, его основоположником был рабби Исраэль бен Элиэзер, более известный под именем Баал-Шем-Тов (что означает «Добрый человек, знающий тайное имя Бога») или по акрониму Бешт. Хасидизм (буквально означает «учение благочестия») получил дальнейшее распространение в первой половине девятнадцатого века и в последующие полстолетия стал оказывать большое влияние на религиозную жизнь в районах проживания евреев в Восточной Европе, в том числе в Белоруссии, где возникла разновидность этого движения — любавичский хасидизм. Глубокая набожность, популизм и в особенности антиинтеллектуальная направленность хасидизма вызывали крайнее неприятие у его противников митнагдим (представителей ортодоксального еврейства), один из духовных лидеров которых, Виленский Гаон, в свое время даже запретил это движение. Но оно привлекало сторонников, потому что делало акцент на простой вере, религиозном переживании и молитве.
Учение Бешта было устным по форме и распространялось в виде изречений, записанных его учениками. Рассказы о Беште и других чудотворцах — служителях Бога — привлекали широкую аудиторию. Как ни странно, в этих историях часто говорится о сомнительной пользе книжных знаний. Хасидские предания абсолютно неисторичны, в них много мистики и упоминаний о волшебных предметах (амулетах, подсвечниках) и бытовых чудесах. И даже в 50-е годы двадцатого века в хасидских общинах все еще рассказывали «сказки» о летающих раввинах.
Родные и близкие Шагала и их ближайшее окружение, несомненно, были знакомы с этими благочестивыми историями. Кроме того, хасидизм, призывавший искать в глубинах нечистоты искру святости, поддерживавший идею радостного служения Богу, хотя и был ортодоксальным по обрядовости, освещал их жизнь актами милосердия и подкреплял молитвы доводящими до экзальтации танцами. Нетрудно увидеть, где именно мистический центр хасидской жизни появляется на сновидческих картинах Шагала, как нетрудно понять, почему на протяжении всей творческой жизни художник с недоверием относился к модным интеллектуальным направлениям и теориям в искусстве. Зачастую его работы кажутся ближе к хасидизму, нежели к кубизму.
По всей вероятности, Шагал учился у Иегуды Пэна довольно долго — от четырех до семи лет. И хотя Шагал всегда норовил преуменьшить влияние, оказанное на него наставниками, и неверно указывал время, проведенное у них в обучении (в своих мемуарах он утверждает, что пробыл в школе Пэна чуть меньше двух месяцев), он все же отдавал им должное, говоря, что они помогли его творческому становлению. После того как в августе 1918 года Шагала назначили уполномоченным по делам искусства в Витебской губернии и спустя пять месяцев он открыл в Витебске новое Народное художественное училище, среди первых приглашенных преподавателей был и Иегуда Пэн. В 1937 году, получив известие о трагической гибели восьмидесятитрехлетнего Пэна, который был убит в собственном доме при невыясненных обстоятельствах (возможно, в этом был замешан сталинский НКВД), Шагал посвятил ему три строфы в поэме «Мой далекий дом», они кончаются так: «Твои еврейские картины валяются в грязи / Свинья мажет по ним хвостом… / Прости, учитель, / я давно тебя покинул».
Это признание, конечно, дань памяти, и все же, похоже, не столько уроки наставника, но сама атмосфера студии Пэна повлияла на Шагала. Юного Шагала пьянили «чудесный запах холста и красок» и та будоражащая суета, хорошо знакомая всем, кто хоть раз заглядывал в художественную школу, а еще — сладкая мечта, о которой можно было сказать лишь шепотом: «Ни одна красивая барышня города не достигала двадцатой весны без того, чтобы Пэн не пригласил ее позировать — как ей угодно. Если возможно до грудей — тем лучше»[2].
Наверное, здесь пора развеять миф о том, что Вторая заповедь Торы: «Не делай себе изваяния и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли» была помехой еврейским художникам, пока Шагал и его современники не сделали рывок к свободе в предвоенном Париже. На самом деле, как ясно показала искусствовед Моника Бом-Дачен, многие еврейские художники, не ограничиваясь изготовлением ритуальных объектов, поддерживали прогрессивные художественные направления, как, например, Камиль Писарро. В 1870-е российский скульптор Марк (Мордехай) Антокольский, который был первым студентом-иудеем в петербургской Императорской Академии художеств, выполнил ряд реалистических работ на тему еврейской жизни и истории. Среди них неоднозначная мраморная скульптура «Христос перед судом народа (Ecce Homo)» (1876), изображающая молодого Христа с пейсами (длинными прядями волос на висках, какие носят ортодоксальные евреи). Иисус-еврей также впоследствии займет важное место в творчестве Шагала, но значение работ Антокольского и некоторых его современников-иудеев, таких, как голландский живописец Йозеф Исраэлс, в том, что они пренебрегли Второй заповедью, вовсе не считая при этом, что нарушение запрета на изображение объектов внешнего мира хоть сколько-нибудь мешает им чувствовать себя евреями или умаляет их искусство.
Гарольд Розенберг[3] как-то заметил, что Вторую заповедь можно объяснить не только представлением об опасной связи между изобразительным искусством и идолопоклонством, но еще и историческим фактом: когда иудеи, находясь в египетском рабстве, работали на строительстве храмов, монументальное искусство несло им гибель и стало символом угнетения. Скульптура, говорит он, «скорее всего, превратилась для них в кошмар». Далее он предполагает (и это уже более правдоподобно), что авторы еврейского Священного Писания исключили необходимость визуальных изображений, наполнив свои истории «блестящими, осмысленными персонажами и предметами». Так, плащ Иосифа, горящий куст и посох Аарона — образы настолько яркие, что представить себе их можно и без помощи изобразительного искусства. «Если б можно было выставить в еврейском музее все эти предметы, кто вспомнил бы о мадоннах?» — говорит Розенберг. Но главная его мысль — что еврейское Священное Писание и есть тот самый еврейский музей, а его читатели — посетители: «Когда мысли читателя заняты таким огромным количеством чудесных вещей и событий, которые невозможно собрать вместе чисто физически, художникам только и остается что изготовлять ритуальные чаши для вина да украшать Тору узорами».