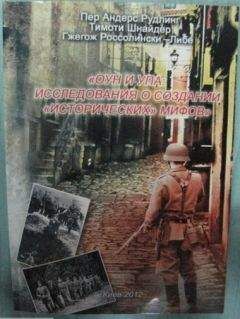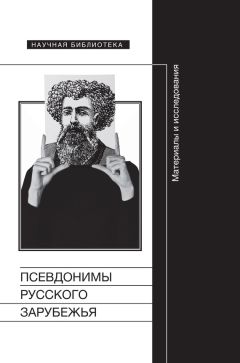Сергей Ушакин - Веселые человечки: культурные герои советского детства
«Золотой ключик» прочно вписан в этот историко-биографический сюжет. 8 марта 1935 года Толстой пишет жене (тогда еще Н. Крандневской) в Москву: «Сегодня в Горках читаю оперу [Ю. А. Шапорина „Декабристы“, либретто которой писал Толстой] Ворошилову. Пиноккио читал там же 6-го. Очень понравилось. Там была Мария Игнатьевна [Будберг]… Она берет Пиноккио для Англии…» [221]
Е. Д. Толстая добавляет к этому известному эпизоду следующую немаловажную деталь: «Именно тогда он [Толстой] решается на гениальный ход: спрашивает у Ворошилова совета, как ему закончить „Хождение по мукам“, и тот объясняет, насколько важное упущение сделал Толстой, не показав центральной роли обороны Царицына (в которой участвовал Сталин). Толстой быстро исправляет оплошность и пишет „Хлеб“…» [222]
Таким образом, дальнейшая работа над проектом «Буратино» идет параллельно с работой над сервильным «Хлебом». Не после ли этого разговора Толстой решает изменить имя героя (и название книги) с «Пиноккио», собственного имени персонажа Коллоди (от итальянского «кедровый орешек»), на нарицательное un burattino, буратино, означающее просто марионетку, куклу в кукольном театре, — сущность, которую удается преодолеть герою Коллоди? [223] Во всяком случае, до весны 1935 года (как отмечает М. Петровский) Толстой неизменно использует имя Пиноккио — Буратино появляется только в последней редакции сказки.
Е. Д. Толстая определяет центральную тему «Золотого ключика» как «сюжет о глупом, но счастливом деревянном человечке, вырвавшемся в свободу искусства от злого кукольного владыки — своего рода alter ego автора» [224]. То, что Толстая называет «свободой искусства», в «Золотом ключике» воплощено мотивом собственного театра, обретаемого Буратино в результате всех его приключений. Этот мотив парадоксальным образом связан в сознании Толстого со Сталиным. Это отчетливо видно по рукописи пьесы «Золотой ключик», над которой Толстой работает тогда же, что и над «Хлебом», в 1936-м году. Толстой пишет пьесу в толстой тетради на одно стороне страницы. Левая сторона разворота, как правило, ос тается чистой, и только несколько раз на ней появляются рисунки. В первый раз напротив слов Мальвины (выпущенных конечном варианте): «Я скучаю без театра. Вот бы завести свой собственный кукольный театр… Сами бы сочиняли пьесы, сами бы продавали билеты… Без плетки Карабаса» [225] — появляется профиль усатого мужчины.
Подобный же профиль, но уже снабженный характерно трубкой, возникает в рукописи еще раз, почти через сто страниц, напротив сцены открытия того самого театра, о котором мечтает Мальвина: «Голоса детей: Буратино, Буратино, / Сам веселый Буратино / Открывает свой театр, / Лучший в мире для детей. / Занимательные пьесы <…> / Куклы сами сочиняют / Сами пляшут и поют» [226] (эта сцена, что показательно, также выпущена из окончательного текста пьесы).
Возникающая несколько раз ассоциация между мотивом своего театра и образом Сталина позволяет предположить, что Толстой мысленно обращает к Сталину мечту о собственном театре — иными словами, об игре по собственным правилам. Именно Сталин как персонификация абсолютной власти способен освободить художника от мелочного контроля «карабасов-барабасов» и предоставить свободу творчества — на определенных, впрочем, условиях. Напомним, что именно так интерпретировалось многими создание Союза писателей, на первый взгляд освободившее «попутчиков» от террора РАППа. Весь проект «Буратино» с этой точки зрения может быть прочитан как некая утопия — парадоксальная, если не оксюморонная, утопия свободной марионетки.
Исследователями Толстого замечены мельчайшие отличия «Золотого ключика» от сказки Коллоди, однако почему-то никто не обратил внимания на колоссальное и почти декларативно подчеркнутое отличие Буратино от Пиноккио: хотя Пиноккио, как и Буратино, появляется на свет с длинным носом, у Пиноккио нос еще больше вытягивается в тот момент, когда он лжет, — что делает начальный размер его носа относительно небольшим.
Этот мотив полностью отсутствует в «Золотом ключике» — отнюдь не потому, что Буратино не врет. Совсем наоборот — вранье изначально характеризует этого героя!
Вместе с тем, как отмечает М. А. Чернышева, в «Золотом ключике» снимается важная для «Пиноккио» антитеза куклы и человека, игры и жизни: «В „Золотом ключике“… кукла и есть человек, игра и есть жизнь» [227]. Если принять версию о Буратино как об alter ego Толстого, то длинный нос Буратино становится лукавой декларацией о предназначении художника, которое Толстой видит вовсе не в обязанности быть глашатаем правды, как требует русская культурная традиция, а совсем наоборот — во вранье, в способности увлекательно сочинять небылицы.
Художника-пророка Толстой замещает художником-буратино, который всегда остается в пространстве игры, в пространстве выдуманной реальности. Единственное, что ему нужно, — это право свободно врать, не из-под плетки, а для собственного удовольствия [228]. Марионеточность у Толстого полностью лишается трагизма: если жизнь — театр, то это самое подходящее место для игры — озорства, шаловства, небылиц и приключений, того, к чему более всего приспособлен Буратино [229].
Такая самореализация художника-буратино не несет никакой угрозы власти, больше всего опасающейся правды и разоблачений. Потому-то и возникает в рукописи Толстого профиль Сталина — как воплощение упований на власть, способную предоставить художнику право на собственную реальность, на собственный театр — при условии чистого и беспримесного вранья, иначе говоря, невмешательства художника в дела этой самой власти.
Эта утопия может быть понята как уникальная в своем роде попытка примирить модернизм с условиями «советской ночи». Ведь что такое взгляд на искусство как вранье, если не нарочито примитивизированная (по законам детской сказки) модернистская концепция автономии искусства, понимание искусства как свободной игры, не имеющей отношения к политическим, социальным, идеологическим аспектам реальности?
С этой точки зрения совсем иной смысл приобретают многочисленные ассоциации с культурой «серебряного века», присутствующие в «Золотом ключике». М. Петровский первым выявил мощный «серебряновечный» ассоциативный пласт в сказке Толстого, оказывается, отсылающей и к Мейерхольду, и к «Балаганчику» Блока, и к Белому, Брюсову, «Сатирикону», Метерлинку, оккультным увлечениям начала века [230], а Е. Д. Толстая нашла дополнительные и весьма убедительные подтверждения этой гипотезе.
Однако не совсем понятно, зачем Толстому было нужно писать завуалированную пародию на «серебряный век» в 1935 году, когда модернистские эксперименты были официально заклеймены как формализм и буржуазное вырождение? Петровский, например, Интерпретирует театр Карабаса-Барабаса как пародию на Мейерхольда с его теорией актера-сверхмарионетки, и даже усматривает в молнии на занавесе театра Буратино намек на чайку на занавесе МХТ. Но Толстой, близкий кругу Мейерхольда в молодости, открыто полемизировал с ним в 1920-е и начале 1930-х годов. Тайные, замаскированные нападки на Мейерхольда, к 1935 году уже ставшему чуть не главной мишенью официальной кампании против «формализма», якобы скрытые в «Золотом ключике», выглядят бессмысленным анахронизмом.
Возможно, впрочем, другое предположение: завуалированные ассоциации с Мейерхольдом и символизмом, скорее всего, нужны были Толстому для того, чтобы в известной степени вернуться к эстетическому опыту модернизма и авангарда, восстановить в правах собственно мейерхольдовское понимание искусства как свободной, незаинтересованной игры, стихии чистой выдумки, веселого самовыражения художника-вруна. Ирония же возникает в сказке Толстого как реакция на слишком серьезную реализацию этой программы. Именно серьезность приводит к сознательной изоляции художника (внутренней или внешней эмиграции), бегству от жестокого театра жизни, комически представленного в «Золотом ключике» кукольным садом Мальвины или пещерой, где прячутся от преследователей Мальвина и Пьеро. Злой пародией не только на Блока, как считал М. Петровский, но и на других великих русских поэтов, избравших путь эмиграции — как внешней, так и внутренней, — звучат у Толстого стихи Пьеро:
Будем жить все лето
Мы на кочке этой,
Ах, — в уединении,
Всем на удивление… (233) [231]
По логике сказки Толстого, Буратино с самого начала свободнее Мальвины и Пьеро: «безмозглый доверчивый дурачок с коротенькими мыслями» принимает самые неприятные обстоятельства как условия игры и уж если играет, то в полную силу, извлекая из любой ситуации максимум театральных эффектов. Он не переживает ситуацию всерьез, его девиз: — и именно поэтому он награжден в конце не реальным богатством или силой, а своим театром.