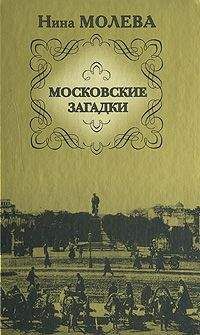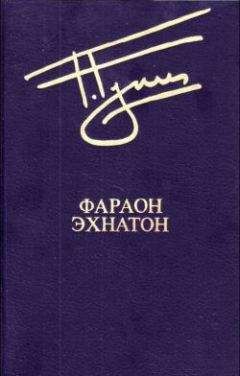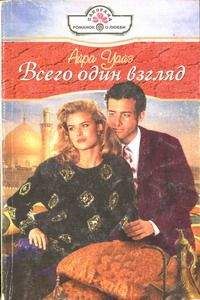Нина Молева - Баланс столетия
Сколько прошло времени? Час? Другой? В начале лета сумерки приходят к полуночи. Было все так же светло. На дворе у скамейки так же толковали соседи.
Человек вошел в переднюю. Один из трех. Глядя куда-то в сторону, сказал: «Ваш муж умер. Только что. В Алексеевском монастыре. Завтра можете получить тело». В такой-то больнице. В морге. Часы работы…
«Нет! Нет! Мама!..» Очнулась в постели. Искаженное болью лицо старенького доктора Ивана Ивановича, у которого лечилась с незапамятных времен вся семья. Мама с полотенцем в руках. Темные окна. Ночь… «Не может быть… Неправда…»
Иван Иванович хотел что-то сказать, Мария Никитична оборвала: «Не надо! Лучше все сразу». — «Что все? Сердце?» — «У ворот их встретили другие. Увели на кладбище Алексеевского монастыря, и там… Соседи видели… Машина ждала у монастырских ворот. Увезли». — «За что?! Господи!..»
Шаги раздались в семь утра. На крыльце. Тихий стук. Вчерашние. И Либединский. «Надо забрать бумаги. Чтобы у вас не было неприятностей. Вас спасти». И рванулись к столу Михаила.
Объемистые портфели и портплед принесли с собой. Собирали все бумажки, почти не проглядывая. Не переговаривались. «Есть ли еще где-нибудь?» Потянулись за карточкой, стоявшей на пианино: Михаил в Симферополе. Схватила первой: «А что останется сыну?» Успела спрятать и еще какую-то, упавшую со стола Михаила.
«Вы уверены, что больше ничего нет?» Ушли, не попрощавшись. Не закрыв за собой двери. Сгибаясь под тяжестью разбухших портфелей — бумаг оказалось на удивление много.
Позаботились и о похоронах. Лидия Ивановна лежала с нервной горячкой. Мария Никитична металась между дочерью и внуком. Все было, как во сне. Из которого нет выхода. Назвали Пятницкое кладбище. У Крестовской заставы. Но могилы там не оказалось. Спрашивать было не у кого…
В 1958-м жена сына пойдет в знаменитый Писательский дом у Третьяковской галереи, в Лаврушинском переулке. Тот самый, куда изначально были поселены те, кто соответствовал режиму соцреализма. Писательница. Автор без малого десятка книг.
Пологая лестница. Тяжелые двери квартир. В глубине открывшейся прихожей пожилой человек. «Моя фамилия… невестка Михаила Беллучи… Хотела узнать…»
Не задумываясь ответил: «Такого не знаю. Никогда не знал. Зачем вы пришли? Оставьте мою квартиру!» На истерическом крике: «Оставьте! Немедленно!» За захлопнувшейся с размаху дверью, казалось, лязгнула цепочка. У начавшейся в стране реабилитации, как у медали, было две стороны — не каждому она была в радость.
NB
1927 год. Сталин первый и единственный раз побывал в театре Мейерхольда на спектакле Родиона Акульшина «Окно в деревню».
Лето. Александра Воронского сняли с должности главного редактора журнала «Красная новь» и исключили из партии.
12 ноября. И. Э. Грабарь — А. В. Луначарскому. Москва.
«…Прошло 10 лет, как волею Революции Вы стали во главе культурно-просветительского строительства Республики. В числе тех многих больших дел, которые Вы либо заново перестроили, либо вновь организовали, есть одно, быть может, не столь заметное среди подавляющих его огромностью других дел, но все же немалое, притом возникшее в первые дни организации самого Наркомпроса, — дело охраны памятников искусства и старины…
В день 10-летия Вашего управления судьбами русского Просвещения Центральные Государственные реставрационные мастерские особенно горячо и с особой признательностью приветствуют в Вашем лице своего идейного вдохновителя и постоянного заступника и желают Вам долгие годы работать на том же культурном фронте во славу великого социалистического строительства человечества».
13 ноября. И. Э. Грабарь — А. В. Луначарскому. Москва (от лица Общества московских художников).
«…Не Ваша вина, что раскрепощенное Революцией русское искусство не завоевало за эти десять лет всего мира, если Москва все еще не центр мирового искусства: русские художники знают, что только экономические невзгоды недавнего прошлого несколько задержали его бурный рост, но они верят, что именно сейчас в Советской России имеются все предпосылки для его пышного развития, и верят, что в ближайшие годы ему предстоит пережить период невиданного расцвета…»
14 ноября объединенное заседание ЦК и ЦКК ВКП(б) приняло решение исключить из партии Троцкого и Зиновьева.
XV съезд партии одобрил решение объединенного собрания и постановил также исключить из партии Радека, Преображенского, Раковского, Пятакова, Серебрякова, Каменева, Мдивани, Смилгу и всю группу «демократического централизма» (Сапронов, Н. Смирнов, Богуславский и др.).
1928 год. 18 мая — 5 июня в Верховном суде СССР проходил процесс по «Шахтинскому делу». Осуждено было 49 человек, из них 11 приговорили к «высшей мере социальной защиты» — расстрелу.
31 мая в Большом театре чествовали вернувшегося из Италии М. Горького. О Москве Горький написал: «Одноэтажная деревянная Москва не будет ремонтирована, а ее разрушат и построят так же, как разрушается хозяином Союза Советов — рабочим классом — все прошлое, отживающее… Все здесь для меня стало неузнаваемым, все помолодело, помолодело изнутри».
13 июня и 1 июля М. Горький ходил загримированный по Москве, чтобы познакомиться с жизнью города.
Мейерхольд и Таиров — тема вечерних споров на Пятницкой, когда собирались Тезавровские и Кржижановские. Тезавровские представляли Станиславского и Мейерхольда. Владимир Васильевич обоих считал превосходными актерами, гениальным режиссером — одного Мейерхольда.
Все на гребне поднимающейся волны духовных потрясений. Искусство в неистребимом импульсе сказать о грядущем и сообразно грядущему. Взрыв привычного и усвоенного через бешеное сопротивление большинства современников. И на первый взгляд необъяснимая в своей глубинной прочности связь: Чехов — Мейерхольд. Из письма актера писателю: «Неужели вы могли подумать, что я забыл Вас? Да разве это возможно? Я думаю о Вас всегда-всегда. Когда читаю Вас, когда играю в Ваших пьесах, когда задумываюсь над смыслом жизни, когда нахожусь в разладе с окружающими и с самим собой, когда страдаю в одиночестве». Это молодость Мейерхольда, к которой Тезавровский, игравший в той же труппе, был причастен.
«Человек идеи», — скажет Немирович-Данченко о Мейерхольде. В многочасовом разговоре Станиславского и Немировича в «Славянском базаре» он будет назван одним из первых кандидатов в будущий театр. «У него есть идея, идеалы, за которые он борется: он не мирится с существующим». Станиславский приведет эти слова в своей книге «Моя жизнь в искусстве».
В одном Тезавровский и Кржижановский согласны: за независимость характера ненавидят. За чувство собственного достоинства — вдвойне. А если они к тому же сцементированы абсолютным талантом… В театре мало кто и мало что прощают друг другу. Тем более режиссеру. Чьи это слова: «Строгих учителей начинают любить только задним числом»? После смерти? Да и то не всегда. Режиссер не может не быть строгим — если у него четкое видение будущей постановки и ясное представление о том, чем могут и должны стать в ней исполнители.
Собеседники-спорщики говорят о том, что у Мейерхольда особенно велик разрыв между самочувствием актера и восприятием зала. Насколько его могут сократить способности исполнителя? Мейерхольд способен из кажущейся посредственности создавать личность. Другое дело, что на сцене актерская личность перерастает собственно человеческие данные. Спор слишком специальный и весь сплетен из человеческих амбиций, самолюбий, тщеславия.
Жизнь Мейерхольда в театре всегда вызывала одни нарекания. С ним спорили ожесточенно. Непримиримо. Не разбираясь в средствах. Для театральных критиков всех мастей он был хлебом насущным, позволявшим завоевывать симпатии театрального обывателя. Одни иронизировали, другие откровенно издевались. В конце концов они научили его стоять за себя в этой непрекращающейся перепалке.
Другое дело, что Мейерхольд боролся только приемами искусства, ни на кого не перенося личных привязанностей и антипатий. Полемика в искусстве представлялась ему очищающей грозой. Может быть, не всегда своевременной. Если земле нужен дождь, человеку вовсе не обязательны оглушающий гром и разрушающая сила молнии. К тому же совершенно несоразмерные проблеме, которая была поставлена. Ведь даже одна молния, принесенная минутным дождем, способна заставить рухнуть на землю могучее вековое дерево. Он часто возвращался к этому сравнению.
И все же полемика воспринималась тем более естественной в условиях полного переворота жизни и привычных представлений. На первый взгляд это выглядело нешуточной дуэлью: Булгаков — Мейерхольд. Кстати, Мейерхольд не обошел ироническим вниманием и «Дни Турбиных». Это не было неприятие Булгакова как писателя — скорее столкновение буйного романтика с рано созревшим скептиком. Булгаков оказался куда более прозорливым, чем Мейерхольд, будто не отдававший себе отчета в том, что происходило кругом. Ему очень трудно было расставаться с мечтой, которая во всей своей полноте — он был уверен — могла осуществиться только в новых условиях. На здании театра его имени — ГОСТИМе он хотел высечь в камне пушкинские слова: «Дух века требует важных перемен и на сцене драматической».