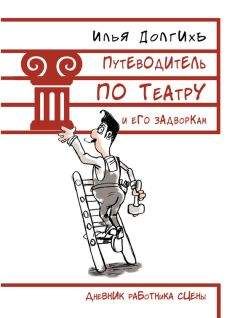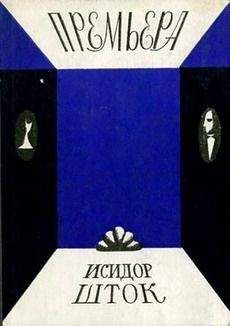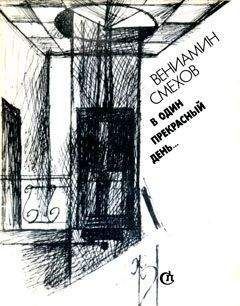Михаил Буткевич - К игровому театру. Лирический трактат
Бургундский герцог отказывался от Корделии, французский король заступался за нее и брал в жены, чтобы увезти за рубеж, британский король топал ногами и махал руками, изрытая ругательства и угрозы, но на это никто уже не обращал внимания, потому что происходило здесь нечто гораздо более важное: карнавальное, шутовское развенчание короля. Развенчание было всенародным, потому что в нем участвовал своим неистовым смехом весь зрительный зал.
Лир здесь впервые почувствовал по-настоящему, что такое бессилие.
Он впервые понял, что перед смехом целого народа не может устоять никакой ритуал, понял и ушел. Ушел так же стремительно и энергично, как входил сюда двадцать минут тому назад. Только не было теперь на нем ни алого плаща, ни короны. Калмыцкий король подошел к Корделии, обезоруживающе улыбнулся и сказал "Милая Корделия, идем". И когда калмык заговорил вдруг по-русски, это было таким же эффектом, как если бы французский король обратился к принцессе на чистейшем английском языке — это трогало и сродняло. Ах, эта знаменитая всепобеждающая органика восточного артиста. Абсолютно естественный, раздольный романтизм "друга степей" умилял, заставлял грезить о совершенной любви и нежности, о бескорыстной доброте, о счастливом конце любых приключений. Но король опоздал со своей любовью — все было не нужно, Корделия не слышала ни его прекрасных слов, ни его благородной души. Она еще могла двигаться, опираться на его руку, но ее уже не было, вместо нее шел мертвец. Возникала жуткая ассоциация: король вел свою невесту в крематорий.
Эта Корделия была фигурой трагической, но она была и виновной — она попробовала смеяться над тем, что смеху не подлежит. Ритуал можно сделать безобидно формальным и смешным, но, увы, ненадолго и только в узком кругу властителей, только в гомеопатических дозах. Смех и ирония несовместимы с ритуалом, потому что подтачивают и разрушают его. В тоталитарной социальной системе горе тому, кто так или иначе посягает на установленный общественный ритуал. Вот где глубочайшая правда Шекспира — в изображении того, как конформистское большинство расправляется с самым минимальным меньшинством: с отдельной личностью, попытавшейся иметь свою волю. Своеволие возможно только на вершине государственной пирамиды, где-то там, за гранью обожествления, внизу же, на уровне индивидуума, так называемого простого человека, не может быть ни своей воли, ни своей мысли, ни даже своего, отдельного чувства.
Все это играла Лена Родионова, и как играла! Она играла как будто последний раз в жизни была сыграна вся история жизни Корделии, за один раз — вся ее жизнь; больше играть было нечего, роль была исчерпана до дна.
Сняли охрану. Спускались сумерки, а, может быть, просто мрачнело в мире. В полутьме пустого зала трон с брошенным на него алым королевским плащом напоминал теперь плаху, залитую кровью.
Косясь на плаху, беседовали по-английски о чем-то тайном две женщины, блондинка и брюнетка...
Попеременное погружение зрителя то в кипящее веселье, то в леденящие волны непонятного и необъяснимого страха, резкие перепады эмоциональных температур, сменяющих друг друга с нарастающей контрастностью, постепенно делали свое дело — неумолимо втягивали публику в ход спектакля, так что по окончании сцены в тронном зале артисты были награждены дружными, без колебаний разразившимися аплодисментами.
Тут начинать нужно с Васи.
Вася был мой недавний ученик. Я до сих пор не могу забыть, как легко, радостно и смело пошел он первым — самым первым! — на импровизацию в тот знаменательный для меня день, в ноябре 1977 года, когда я — тоже впервые — приступил к занятиям по новой методике обучения актеров; не случайно, как до этого, не урывками, не из-под полы, а открыто, демонстративно и принципиально до конца. Я начал тот урок с актерских импровизаций на музыкальную тему — с наиболее простого и приятного задания. Дал послушать студентам музыку. Сейчас уж не вспомню ни композитора, ни названия вещи, помню только, что это была прелестная, очень живая фортепьянная пьеса из классического репертуара, радостная, богато украшенная всевозможными руладами и фиоритурами. Спросил, кто хочет попробовать. Никто не осмелился. Я завел пластинку еще раз — с тем же результатом. Я пожал плечами и высказался по поводу бессмысленной, ни на чем не основанной трусости. Тогда-то и вышел Вася.
Заиграла музыка и отважный доброволец начал якобы раздеваться под музыку. Аудитория неприлично захохотала, но Вася не остановился. Он оглядел широкий горизонт, и все поняли: Вася один на бесконечном песчаном берегу. Слепит глаза солнце. Ласково гладит плечи и грудь морской ветер, свежий и соленый. Все почувствовали, разгадали главное — только что возникшее родство музыки и создаваемого смелым Васей мира, по кругу пробежала волна сочувственного одобрения. А осмелевший Вася уже пробовал воду: протянул ногу и быстро ее отдернул — холодна водичка! Море засмеялось (всплеск клавишей) и окатило Васю брызгами набежавшего прибоя. Вася отскочил назад, и тут начался радостный праздник случайных, непредусмотренных, заранее не рассчитанных совпадений музыкальных ходов с актерскими. Отпрыгнувший купальщик решился — набрал воздуху и пошел в воду: по колено, по пояс, по грудь. Охнул и окунулся с головой. Вынырнул счастливый, помотал головой, отряхиваясь, и поплыл вперед по бирюзовым посверкивающим волнам музыки, ритмично, упруго, переворачиваясь в воде, ныряя и выбрасываясь на гребни — поплыл, потом, услышав запомнившуюся оригинальную музыкальную фразу, встал во весь рост и пошел, как по суху, от берега, навстречу белым барашкам...
Потом Вася стал аспирантом кафедры режиссуры, и мы с ним много занимались вопросами импровизационного вооружения актера.
А со временем, очень скоро, он превратился в Василия Ивановича, педагога нашей кафедры и, поскольку мир стал невообразимо тесен, мы с ним стали, в конце концов, работать вместе — на любимом моем "лировском" курсе. Сначала Василий Иванович работал у меня под рукой и не решался оставаться один на один с нашими великовозрастными учениками, но однажды я напомнил ему "морские купания под музыку" и выпроводил в соседнюю аудиторию вместе с актерской группой: пора, мой друг, пора — идите к тиграм в клетку. Вася пошел и, к своему удивлению, управился с хищниками прекрасно. Так что когда мы приступали к работе над "Лиром", Вася уже пообвыкся, приобрел опыт и мог работать абсолютно самостоятельно. Ему-то я и отдал на откуп первую часть спектакля: раздел королевства и выяснение отношений со старшими дочерьми.
После репетиций Василий Иванович прибегал ко мне окрыленный. Как бы отчитываясь передо мною, он в самом деле делился своей радостью: получается! получается! Иной раз его восторг превращался в телячий:
Михал Михалыч! Я придумал переводчиков!
Каких переводчиков? Вася!
Это здорово! Нечем было занять двух человек, и я подумал: пусть у французского короля и бургундского герцога будут персональные переводчики. А получились роли, и теперь, Михал Михалыч, им все завидуют.
Какие переводчики, Вася?
— Ну кто-то ведь должен переводить французу, что говорит ему англичанин Лир, Лир ведь говорит по-английски! а французский король английского языка не понимает, и для Лира нужно переводить французские речи. А бургундцы говорили на своем языке.
Вася был прав. И как это раньше я не обратил на такое обстоятельство внимания. Глупо ведь предполагать, что французский король на заре истории изучал английский язык.
И что же эти переводчики у вас делают?
Не скажу, Михал Михалыч, придете и увидите. Смешно-о-о!
В этот вечер я ехал домой, если допустить дамскую остроту, в электричке и в тревоге. Что там натворил Вася? Не превратил бы он нашу трагикомедию в капустник или в пародию. Но в конце концов успокоился — эти васины переводчики лишь небольшой эпизод, и в масштабе спектакля займут не так уж много времени. Пусть Василий Иванович порезвится, легкие капустные веяния погоды не делают.
А Василий Иванович снова и снова приносил мне свои сенсационные новости и, захлебываясь в хохоте, говорил о дипломатическом протоколе, о нравах "английского" двора, о юридических прецедентах и о том, как все это будет смешно.
Когда работа была Васей вчерне завершена, он пригласил меня посмотреть, пригласил с гордостью и без страха. То, что я увидел, привело меня в полную растерянность. Это, правда, было очень смешно, и играли ребята лихо, но на сердце у меня было неспокойно: а Шекспир? А трагедия? — сплошной театр имени Белкина, вселенский СТЭМ.
Мне хотелось пожурить Васю, заставить его переделать сцену по моим замечаниям, но я ведь сам дал молодому педагогу полную свободу, сам его вырастил и выпестовал, сам твердил ему о жанровом перевороте, о театре шутов... И я ничего не сказал Васе. Похвалил его работу при студентах, поблагодарил исполнителей, оставил все, как есть. И был вознагражден за свою терпимость сполна.