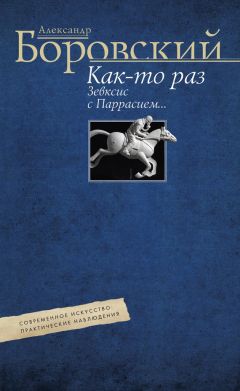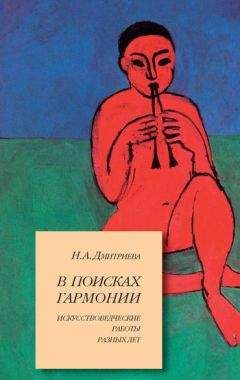Нина Дмитриева - В поисках гармонии. Искусствоведческие работы разных лет
Земной Рай с расстилающимися коврами трав и цветов, пением птиц, чистейшими прозрачными реками – место, доступное восприятию смертных; оно отличается от подобных же прелестных уголков земной природы только тем, что не подвержено увяданию: царство вечной весны. Это тот самый Эдем, в котором жили до изгнания первые люди, и Данте, гуляя по его рощам, про себя досадует на Еву: не вкуси она запретный плод, радость «несказанных сеней» была бы доступна всем и всегда. Другое дело – Небесный Рай: там иные блаженства, неведомые на земле, там нет ни земного притяжения, ни плотности тел и постоянства форм; там непроницаемое вещество претворено в свето-цветомузыку, а души праведников – в хороводы живых огней, причем они могут одновременно находиться в разных пространственных сферах.
Но пока Данте все еще на земле. И здесь, на грани земли и неба, предстает перед ним та, которую он так любил еще восьмилетней девочкой, а потом молодой женщиной, – Биче Портинари, Беатриче, Благословенная. В зеленом плаще и огненно-красном одеянии, окутанная белым покрывалом, она стоит на колеснице, влекомой грифом; колесницу окружают танцующие девы и увенчанные лилиями и розами старцы; звучат песнопения, сияют светильники, облаком ниспадают цветы.
Кажется, что до сих пор обещанная Вергилием встреча с Беатриче все же представлялась Данте чем-то отвлеченным; по правде говоря, он не очень много помышлял о ней во время путешествия по Аду и Чистилищу. Ведь «умчались времена, когда его ввергала в содроганье одним своим присутствием она». Даже теперь, восхищенно следя за приближением ослепительной процессии со всеми ее световыми эффектами, замечая каждую подробность, Данте не сразу понимает, кто эта величавая женщина на колеснице, с лицом, закрытым покрывалом. И вдруг – внезапное потрясение: он ее узнает!..
Конечно, процессия состоит из библейских персонажей и имеет аллегорический смысл, точно выясненный комментаторами «Божественной комедии», да и сама Беатриче – символ небесного Откровения, явленного людям. Но Данте в ту минуту не до символов. Он силится разглядеть сквозь покрывало дорогие черты, не виденные уже десять лет (десять лет, как Беатриче умерла), чувствует прилив былой любви, трепет былого огня. Это узнавание, блаженная боль, мгновенно воскресшая любовь, смешанная с угрызениями совести (он не был верен ее памяти!), – вот что для него сейчас главное. Возлюбленная Данте является ему сохранившей земное обаяние в небесном величии: он поистине говорит о ней «то, что никогда еще не говорилось ни об одной». Ни до него, ни потом.
«С той мольбой во взоре,/ С какой ребенок ищет мать свою /И к ней бежит в испуге или в горе» Данте ищет взглядом Вергилия, чтобы поделиться с ним своим потрясением, – но Вергилия нет. Вот только что он еще был здесь, когда близилась колесница, еще ответил тогда взглядом на вопрошающий взор Данте… Теперь он исчез. И начинает говорить сама Беатриче. Ее речь замечательна тою же слиянностью небесного и земного, как и чувства Данте, ее увидевшего, – как вся кантика, посвященная Чистилищу.
Смысл Чистилища – раскаяние; раскаяния требует от Данте и Беатриче. Но в повелительное обращение небесной посланницы к земному грешнику странно и трогательно вплетаются интонации женщины, упрекающей неверного возлюбленного. О, она осталась той же моной Биче, благородной донной, которая некогда на улице Флоренции не ответила на робкое приветствие своего поклонника, потому что узнала о сопернице, «даме-ширме», а потом посмеялась над ним вместе со своими подругами, видя его крайнюю убитость ее немилостью. Она и сейчас негодует, язвит, подсмеивается.
Сначала она, «сдерживая гнев», строго вопрошает Данте: как он осмелился взойти сюда, «где обитают счастье и величье»? Вопрос, по-видимому, излишний, ведь сама же Беатриче спускалась в Лимб к Вергилию и со слезами просила вывести заблудшего Данте к свету. Но как истинная женщина, она спрашивает: «Зачет ты пришел?» – хотя пришел он по ее зову.
Далее она упрекает Данте за то, что после ее смерти «его душа к любимой охладела,/Он устремил шаги дурной стезей,/К обманным благам, ложным изначала». Беатриче подразумевает не только суетные устремления к политической карьере, но и романы Данте с другими женщинами. Слушая Беатриче, Данте изнемогает от стыда и раскаяния; ангелы из ее свиты умоляют простить его, но она настаивает, чтобы он вслух признал свою вину: «Скажи, скажи, права ли я!»
Но уже ясно, что она давно готова простить и непременно простит. По ее знаку Мательда погружает Данте поочередно в воды Леты и Эвнои, он становится «чист и достоин посетить светила». Ему предстоит посетить их вместе с Беатриче.
И когда пройдет все мимо,
Чем тревожила земля,
Та, кого любил ты много,
Поведет рукой любимой
В елисейские поля.
Библейские эскизы Александра Иванова[18]
Понимание искусства как жизнестроительной миссии наложило своеобразный отпечаток на русскую культуру XIX столетия. Не только для Гоголя, Достоевского, Льва Толстого, но и для передвижников художественный труд имел важность постольку, поскольку служил духовному совершенствованию людей. В этическом максимализме русских художников, возможно, сказывалась преемственность с многовековой культурой Древней Руси, где эстетическое сознание не отчленялось от религиозного. Преемственность, конечно, неосознаваемая: в XIX веке образ мыслей круто переменился, старинную иконопись позабыли, новый художественный язык, ориентированный на европейское Возрождение, не имел с ней ничего общего. Но где-то в потаенных генах прошлое продолжало жить. Древние благочестивые иконописцы не мыслили свое искусство вне служения Богу; их вольнодумные потомки, даже и не верящие в Бога, видели в искусстве служение чему-то высшему, чем оно само. Если не Богу, то нравственному обновлению человечества, не меньше.
Живописец Александр Иванов представляет такой тип художника в самом чистом выражении. Идея художественного мессианизма владела им повелительно, превратила его жизнь в подвижническое житие. Это произошло с ним не благодаря полученному воспитанию, скорее вопреки. Он был воспитанником императорской Академии художеств, обучавшей своих питомцев в духе эпигонского неоклассицизма и прививавшей им довольно формальное отношение к делу искусства. Учеников набирали только из низших сословий, приученных к послушанию; обучение начиналось с детского возраста и длилось двенадцать лет. Вырваться из-под пресса жесткой академической системы удавалось немногим.
Поначалу биография Александра Иванова складывалась традиционно: поступил в академию еще ребенком, занимался по классу исторической живописи (самому высшему в академической иерархии жанров) под руководством своего отца Андрея Иванова, профессора академии, и профессора Егорова, слывшего русским Рафаэлем. По окончании курса
Общество поощрения художников отправило Александра пенсионером в Италию. В отличие от своего старшего товарища Карла Брюллова Иванов в годы учения особенно не блистал, хотя работал прилежно, выполнял задания, получал медали. Писал «Приама перед Ахиллом», «Иосифа, толкующего сны», «Беллерофонта, отправляющегося в поход против Химеры» – картины, не слишком отличающиеся от принятых академических стандартов. Он был медлителен, тих, серьезен, был тяжелодум; какая-то сосредоточенная душевная работа шла в нем подспудно. Может быть, он и уступал Брюллову в яркости, искрометности дарования, но тот как будто родился готовым Брюлловым и со временем мало изменялся, а Иванов, двигаясь неуклонно и непрерывно, не только вырос впоследствии из академических пелен, но перерос лучшие живописные достижения своих современников, выработал новое художественное зрение и новый взгляд на искусство.
Заметный сдвиг и в мыслях и в творчестве наступил уже в первые годы жизни в Риме, куда Иванов прибыл в 1830 году. В Петербурге среда художников, вербовавшихся из семей мещан и мастеровых, была обособлена от той напряженной умственной жизни, которой жила тогда дворянская интеллигенция. К ней были так или иначе причастны лишь немногие живописцы, в том числе «видописец и перспективист» (то есть пейзажист) Карл Рабус современники отзывались о нем как о самом просвещенном художнике. Иванов дружил с Рабусом, снабжавшим его списками книг для чтения; других тесных знакомств вне академического круга у него, по-видимому, не было. В Риме же молодые русские художники, пенсионеры академии, имели возможность общаться и с иностранцами, и со своими земляками – писателями, артистами, музыкантами, наезжавшими в Вечный город. Здесь Александр Иванов стал бывать в салоне Зинаиды Волконской, у нее свел знакомство с молодым философом Николаем Рожалиным, участником кружка любомудров. Как много значили для Иванова их беседы, можно судить по письму к Рожалину, где он пишет: «Отцу моему я обязан жизнью и искусством, которое внушено мне как ремесло. Вам я обязан понятием о жизни и об отношении искусства моего к источнику его – душе».