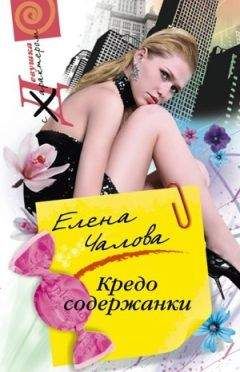Рина Зеленая - Разрозненные страницы
Тут Марецкая закрыла лицо руками и закричала:
– Это такая гадость, такая мерзость, что я и говорить об этом не хочу.
Все засмеялись, ей поставили пятерку. И много других разных историй было, о которых теперь никто и не вспомнит.
А потом все творческие дома пошли за Б.М. Филипповым. Все директора строили программы по его методам, организовали разные клубы вроде «Хочу все знать» и т. д. Надо сказать, много сил и, как сейчас говорят, творческой фантазии внес Б.М. Филиппов в работу, в само понятие «директор Дома работников искусств». Он беспощадно, как зверь, учил своих помощников, требуя от них выдумки и ее безукоризненного выполнения.
С нами, актерами, Филиппов обращался не лучше, и все его боялись, несмотря на его маленький рост. В одном из «капустников» я пела, перефразировав модную тогда песенку Островского:
Смотришь ему вслед —
Ничего в нем нет!
А я все гляжу,
Глаз не отвожу!
Многие из нас долгие годы оставались членами правления ЦДРИ. Однажды шло заседание правления, на котором в очередной раз нас за что-то ругал ЦК Союза работников искусств. За столом сидели в основном бессменные, немолодые члены правления, поседевшие в творческих боях, хотя женщины, не желая сдаваться, были, как всегда, белокурыми, жгуче-черными или модно-рыжими. В своем выступлении я сказала:
– Вот сколько лет нас ругают, а мы даже и не обедали сегодня, сидим тут с утра, заседаем. Вы посмотрите на нас: хорошо еще, что женщины не седеют, а то все бы белыми стали.
Тут все стали смотреть на седых или седеющих мужчин и на «нестареющих» женщин и захохотали.
Ваша покорная слуга работала в правлении одиннадцать лет.
Дом Пешковых
Дело было так. Зазвонил телефон. Я подошла, и чужой голос очень ласково спросил меня, могу ли я сегодня поехать к Алексею Максимовичу Горькому. Он объяснил мне, что Алексей Максимович хочет видеть эту Рину Зеленую, про которую ему рассказывали и Максим, и Надежда Алексеевна, и А.Н. Тихонов. И Горький хочет посмотреть на меня. Он еще сказал:
– Это говорит Крючков. Я сам за вами заеду и отвезу вас к Алексею Максимовичу.
Я сказала:
– Хорошо, спасибо.
Как будто это обычное дело – ехать к Горькому!
В шесть часов Крючков заехал за мной на Тверскую, где я жила тогда, и мы поехали, по-моему, в Машков переулок. Потом, в пятьдесят третьем году, мы переехали в Харитоньевский переулок, а напротив, оказывается, именно Машков переулок (теперь улица Чаплыгина), и в той квартире, где я тогда встретилась с Горьким, живет Екатерина Павловна Пешкова. А я тоже Екатерина, и день ангела у нас общий – 7 декабря, а так как Екатерина Павловна относилась ко мне очень сердечно, каждый год она звонила мне в этот день, и я приходила к ней, и мы пили чай из особенно красивых, праздничных чашек, даже если ко мне уже собирались друзья есть именинные пироги.
Екатерина Павловна вызывала всегда во мне чувство особого, глубокого уважения и ощущение спокойствия, которое как бы исходило от нее всегда. Дел у Екатерины Павловны было необъятное количество, так как она всю жизнь вела громадную общественную работу и была организатором и председателем советского отделения общества «Красный Крест». А ее секретарша и заведующая делами пугала меня темпераментом и буйным выражением симпатии ко мне.
Но вот о чем я рассказываю. Значит, Крючков привез меня тогда в эту квартиру Алексея Максимовича. Там меня встретила Надежда Алексеевна, жена Максима, очень красивая женщина, на которую невольно залюбуешься. Мы сидели и разговаривали, и я будто ничего и не боялась. А ведь уже начала соображать, кого я увижу сегодня. Можно ли этому поверить? Бывает ли такое в жизни? А тут мы сидим и о чем-то толкуем, и вдруг входит в комнату, в столовую, Алексей Максимович и протягивает мне руку и говорит:
– Здравствуйте, Рина.
Трудно поверить: ведь с тех пор, как я научилась читать, я видела его портрет и имя среди других – Некрасов, Толстой, Чехов. У моих родителей в шкафу за стеклом стояли классики – бесплатное приложение к журналу «Нива», – там они все стояли рядом. Присылали сами книги отдельно, а их голубые, коричневые, зеленые с золотом переплеты – отдельно. Их полагалось переплетать, но наша мама этого не делала. Книжки просто вкладывались в переплеты и стояли в шкафу рядами. И было как бы все в порядке. Когда я добралась до них, то, конечно, стала вытаскивать книжки из переплетов, читала, а потом вкладывала в продолжавшие стоять на полке переплеты, нисколько не беспокоясь, что в Чехова мог попасть Некрасов. А томики стояли в шкафу – «как у людей».
И вот входит Горький (как если бы вдруг вошел Достоевский или Лермонтов) и сел за стол. Ему наливает чай Надежда Алексеевна. И мне. Мы сидим за столом и разговариваем. Потом, немного погодя Алексей Максимович говорит:
– Тимоша, – так он называл Надежду Алексеевну, – может быть, Рина расскажет нам то, что она читает о детях?
– Конечно, Алексей Максимович, – отвечаю я, – если вы хотите.
И я собираю все актерское самообладание. Читать в переполненном Колонном зале или в Политехническом актеру легче, чем перед пятью, десятью или одним человеком, который смотрит на тебя в упор, не давая возможности забыть, что ты – уже не ты, а четырехлетний человек, который беседует со взрослым.
И вот я, забыв обо всем, как всегда на сцене, читаю Горькому крохотные новеллы. Это были почти первые мои записи о детях. Алексей Максимович слушал внимательно и растроганно. Читала я хорошо, и чистый мой детский голос звучал правдиво и трогательно. Я рассказывала еще и еще. Алексей Максимович смеялся от души, и несколько раз слезы навертывались на его голубые глаза. Он удивлялся, что ни разу не слышал меня на сцене, хотя несколько раз бывал на концертах.
И тут я, к сожалению, вспомнила совершенно некстати, что мне рассказывали о восторженном отзыве Горького в газете об одной немецкой эстрадной актрисе, Tea Альба, которая гастролировала в Москве. В те годы очень часто в программы включались иностранные номера. Приезжали танцоры, певцы, фокусники, акробаты. И вот в одной из программ был такой необычный номер. На сцене стояла большая черная грифельная доска, а исполнительница, взяв в обе руки по куску мела, под музыку писала на ней двумя руками сразу совершенно разные тексты по-русски и по-немецки одновременно. Это было очень эффектно, и неожиданно, и шикарно. И сама она – пышная, эффектная и белокурая.
А мы-то все, наши актеры, выдумывали, бились над каждым номером, а нам говорили: «Нет, не годится. Нет, это мелко, типичное мелкотемье. Это – нельзя, это – безыдейно, это – не пойдет». Какие уж тут грифельные доски. И в прессе, бывало, кроме ругани, не найдешь ни слова доброго о нашей эстраде в те времена.
Конечно, номер немецкой актрисы был отличный, производил впечатление. Техника – удивительная, придумано остроумно и делалось с блеском, почти как фокус. Но получить такую высокую оценку в газете – от кого? От Максима Горького!
И вот тут, когда мне нужно было хорошенько промолчать, я сказала, что совершенно не нахожу в этом номере ничего прекрасного. Разумеется, удачная находка, блестящая техника – да. Техника, память и техника. Но этому можно научиться, талантом это назвать нельзя. Тимоша смотрела на меня удивленно: что это я несу? с кем спорю? Я все-таки замолчала.
Теперь необходимо сказать, что, когда в детстве я читала сказки, а я их читала всегда, я твердо верила в существование фей и волшебников, никогда никаких сомнений в этом не появлялось. И каждый раз меня бесило, что ни один герой в сказке не мог толком ответить, чего именно он хочет, какие у него три желания. Каждый раз какая-то чушь получалась.
И вот, во избежание подобного случая со мной, у меня всегда было заготовлено три желания, чтобы не растеряться, когда спросят. Желания менялись время от времени, но я всегда помнила о них. Была полная уверенность, что когда-нибудь меня про это обязательно спросит знакомая фея. Но и со мной произошло все так, как полагается в сказке.
Алексей Максимович, сидя рядом со мной, спросил:
– Ну, Рина, скажите-ка мне, что же я могу для вас сделать хорошего?
Спросил так просто, как полагается в сказке: ну, говори, какие у тебя три желания?
И тут я, не нарушая законов сказки, сказала, как простодушная сказочная дурочка, что у меня все хорошо, лучше быть не может, ничего мне не надо. А как раз в это время было много непреодолимо ужасного: театр выгоняли из Дома печати, и пока еще не было нового помещения, и надо было, чтобы кто-нибудь заступился, замолвил словечко; мы с мамой и сестрой ютились в какой-то полуподвальной комнатенке; а еще были временные затруднения с едой, в магазине нечего было купить, все шли в торгсин, сдавали разное серебро или золото и получали талоны на продукты, а у нашей мамы ничего быть не могло.