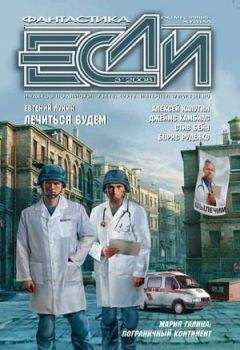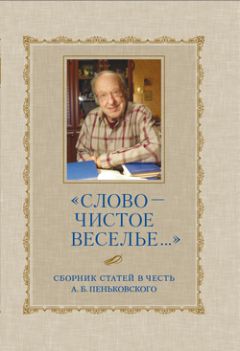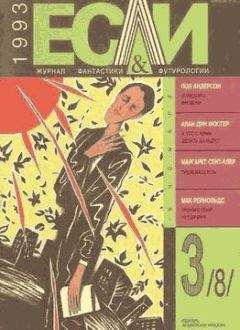Феликс Розинер - Гимн солнцу
Прелюды и вариации Чюрлениса, написанные в 1904–1906 годах, обладают многими чертами, которые делают их популярными сегодня у исполнителей и слушателей. Сегодня эти пьесы играют в концертных залах, немало записано на грампластинки. Привлекают в них прежде всего те благородство и возвышенность чувств, какие покоряют во всем, сделанном Чюрленисом. Он романтичен, но не сентиментален; он искренен, откровенен, но и сдержан; стиль его музыкального языка внешне прост, но в нем нет привычных оборотов, бездумных красивостей и звуковых эффектов.
В японской поэзии есть древняя стихотворная форма, зовущаяся танка. Это короткое стихотворение, иногда одна только фраза, состоящая из определенного числа слогов — тридцати одного. Вот пример:
Порой осеннего тепла
Мелькнула
Птицы тень
В стекле туманном —
И мысли спутались мои.
Эти стихи написал современник Чюрлениса японский поэт Исикава Такубоку. О своих стихах-танка поэт говорил словами, которые удивительно точно соответствуют тому, что мог бы сказать о своих прелюдах Чюрленис:
«Есть особые мгновения, они не повторяются дважды в жизни. Я с любовью вспоминаю эти мгновения. Мне не хочется, чтоб они прошли напрасно. Для того чтобы выразить их, наиболее подходят короткие по форме песни, которые можно создавать быстро… Я пишу такие песни потому, что я люблю жизнь».
Раскрыв томик этих стихов случайно, наугад, без внутренней сосредоточенности и душевной подготовки, вы наверняка пройдете мимо глубокой, необыкновенно содержательной поэзии нескольких строк танка. Нечто подобное происходит и с музыкой, да и с живописью Чюрлениса: его творения требуют огромного внимания, напряженного сопереживания. Один из прелюдов, написанных в 1906 году, состоит из десяти музыкальных тактов, которые играются в медленном темпе и звучат всего сорок-пятьдесят секунд. В прелюде повторяются одни и те же ритмические фигуры, говорить здесь о каких-то особых способах воздействия на слушателя не приходится, но сколько тихой, сосредоточенной лирики в этих десяти тактах! Столько же, сколько вмещает классическая японская танка, или — сравним с самим Чюрленисом — сколько вмещает лист картона с тремя одуванчиками… Редкостное сочетание теплоты и легкости разговора с точной, предельной выразительностью глубокой мысли — так беседует с вами Чюрленис.
Глава VIII
ЗАЖИГАЮЩИЙ ПЛАМЯ
Где задел за камень,
Огонь блестел.
Вильнюс был главным городом Литвы уже в начале XIV века, когда литовский князь Гедиминас перенес сюда столицу из соседнего замка Тракай. В Вильнюсе старейшая на территории нашей страны библиотека, его университету исполнилось уже четыреста лет, словом, город издавна складывался как крупный очаг культуры. Это объясняет, почему с началом развития литовского национального движения культурно-просветительская деятельность интеллигенции развернулась в Вильнюсе. Именно там печаталось большинство книг и газет на литовском языке, там ставились первые национальные театральные спектакли, различные литовские научные, образовательные, культурные учреждения организовывались также на территории Вильнюса.
На исходе 1906 года, под самое рождество, спешащие за праздничными покупками жители города могли читать расклеенные на тумбах афиши:
Вильно, 27 декабря 1906 года в доме 24 А по Антокольской улице открывается Первая литовская художественная выставка. Вход в день открытия 1 руб., в остальные дни 20 коп. Учащиеся 10 коп. Выставка открыта ежедневно с 10 час. утра до 7 час. вечера.
Наступил день открытия, и в этот день люди платили рубль, а не двадцать копеек, и было в меру торжественно, потому что присутствовало городское начальство, говорились речи и участников выставки поздравляли, затем все осматривали развешанное и расставленное в не очень больших залах с не очень подходящей обойной разрисовкой стен, потом обменивались мнениями, что-то хвалили, что-то порицали и, наконец, благополучно возвращались к рождественскому гусю, который томился и румянился на кухне, ожидая хозяев в нетерпеливом желании быть съеденным…
Обывателям — а их всегда и всюду достаточно — все равно, выставка ли, концерт ли, и если влечет их на такого рода развлечения, то обычно потому, что это «открытие» и будут важные лица, да и вообще — полагается быть культурными. К тому же, теперь пошла новая мода на все «литовское», раньше-то, совсем недавно, называлось то же самое «мужицкое». Даже язык — одни мужики на нем говорили до сих пор, а все эти пояса да вышитые передники, всякие деревянные черпаки да прялки — мужицкое добро и есть, и чего красивого в нем нашли, чтобы выставлять тут для обозрения культурному обществу?
«Эта выставка была как бы герольдом, который вышел рано утром на зеленый пригорок и протрубил в золотой горн во все стороны света, призывая работников духа разжечь одно великое пламя искусства во славу и возвышение нашей матери Литвы. И собрались работники, и хотя немного их было, но огонь был зажжен».
Так оценил значение выставки Чюрленис. И так, пусть не в этих романтических выражениях, говорили о выставке представители истинной литовской культуры — что верно, то верно, «немного их было», интеллигенция была малочисленна, а сколько предстояло дел впереди! Нелегко разжигать огонь на заре, когда и те, и эти спят еще… Что ж, ничего удивительного. Пройдет время, и все изменится. А пока тридцать три работы, выставленные Чюрленисом, вызывают недоумение, раздражение, «были и такие, кто, глядя на мои картины, покатывались со смеху». Что ж, пройдет время…
«Мои картины успеха не имели, и ничего удивительного: Вильнюс все еще в пеленках — в искусстве ничего не смыслит, но это не портит мне настроения. В будущем году устроим вторую выставку, и я должен буду победить».
Среди тех немногих, кто воспринял живопись Чюрлениса как значительное явление, были лучшие деятели тогдашнего искусства, например, писательница Жемайте — классик литературы литовского народа. Восторженно отнеслась к творчеству художника и молодежь.
Наступала весна, Чюрленис заканчивал наконец-то партитуру «Моря», в голове окончательно вырисовывался новый цикл картин, и его неудержимо тянуло в Друскининкай, домой, где он мог бы засесть за работу, не отрываясь ни на что. Однако новые дела еще держали его в Вильнюсе: было решено основать Литовское художественное общество, и вместе с другими сподвижниками он разрабатывает устав, в который, кроме благородных задач объединения, материальной и моральной поддержки людей искусства, включаются и такие подлинно демократические цели: «поднятие художественной культуры населения, поощрение народного творчества».
Чюрлениса избирают вице-председателем общества. Он опять считает, что это незаслуженная честь для него, но одновременно окрылен, и чувство ответственности перед возложенным на него не дает покоя: все говорит за то, что надо перебираться сюда, в Вильнюс, здесь обосноваться и здесь работать. Дел много — его дел, от которых он не хочет отказываться, потому что он — работник, тот, кто должен возжигать пламя…
Но вот можно и отправляться в Друскининкай. Как всегда, он заранее сообщил, когда приедет, и Янкель со своей телегой уже ждет его… Только однажды Чюрленис, не увидев вовремя Янкеля, ехал со станции в другом экипаже, и как же обижен был старик! «Пан, я вас еще дитем возил, а теперь плох для вас стал!» Он утирал слезы, а растроганный его горем Чюрленис объяснял случайное недоразумение и с печальной улыбкой просил не сердиться. Тот и не сердился потом, и телега, кое-где прикрытая куском полотна, возила привычного пассажира весною и осенью, и под мерный цокот копыт можно было думать о чем угодно, вот так хотя бы, как думалось не однажды: «Ах, Янкель, ты старый и вечно тот же Янкель. Ты, наверное, много тайн знаешь. Ты, наверное, знаешь, как жалобно звенит твой колокольчик, когда едем на станцию. И знаешь, как хочется выскочить из твоей колымаги и обнять сосенку, склонить голову к ее иголкам и оросить слезами щеки. Ты знаешь, но никогда и никому этого не скажешь…»
Но сейчас колокольчик звенит иначе — весело он звенит, и весело вбегает приезжий в тесный родительский домик, и мать с отцом, сестренки, братья и даже малышки племянники и племянницы встречают его кто улыбкой, кто словом, кто неожиданным детским ревом, а он, смеясь, бросается к пианино — и шутовское торжество дурацкой песенки «У попа была собака» гремит аккордами и хором давящихся от хохота ребячьих голосов.
Умеют веселиться у этих Чюрленисов! А с чего им веселиться? Вот уже год, как старик органист без работы. Прежний ксендз относился к нему хорошо, даже прибавил жалованье, а потом появился другой, и этот новый ксендз сказал, что за такую плату органист не только играть в костеле должен, но и по его, ксендза, дому делать всякую работу и чуть ли не сапоги ему начищать. Только дело не в плате было: эти Чюрленисы начали слишком уж в открытую выказывать свое литовское происхождение, газету на своем языке стали выписывать, детей литовскому учить, а ксендзу такое не нравилось. Вот и уволил старого Чюрлениса. А послушайте, как шумят в доме, сколько смеха и звонких голосов, — нет, когда такое веселье, значит, тут люди будут счастливы всегда, что бы ни было с ними. Старший, Кастукас, давно уже солидный господин, а с детьми забавляется, как будто ровня самой младшей своей семилетней сестренке Ядвиге. То бегает, прыгает с ними во дворе, то придумает стучать — кто в медный таз, кто в крышку, кто в кастрюлю, — они называют весь этот гром «восточной музыкой», а люди говорят, что бесовская — оборони, господь! — музыка, и обходят их двор стороной. Но, правду сказать, когда старший брат соберет всех своих домашних, чтобы петь хором, вот тогда красиво у них получается, так красиво поют, что такого пения и в костеле не услышать. А вечерами сам играет на пианино — час играет, слышно, два часа, а младшие тихо сидят, значит, любят слушать его музыку… И еще бывает, что видят, как он на ночь глядя куда-то в лес уходит, что там делать в лесу, в темноте-то? На рассвете, пастухи говорят, возвращается из лесу, идет, напевает, глаза блестят… Ох, непонятно это, непонятно, потому как музыканты и художники что тебе колдуны — не такие, как все!..