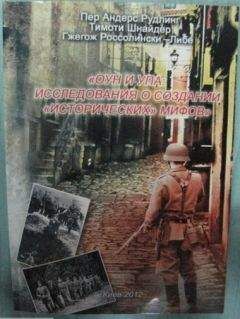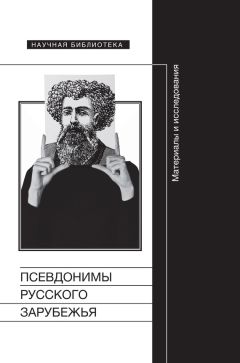Сергей Ушакин - Веселые человечки: культурные герои советского детства
В «Одолеем Бармалея» это скрытое и менее оптимистичное представление о конфликте выходит на первый план. Уже было замечено другими исследователями, что написанная в военное время сказка Чуковского повторяет целый ряд поэтических строчек и определенные элементы сюжета неопубликованного варианта «Айболита» 1928 года, потому что она тоже начинается со сцены «классового угнетения», в которой крупные хищники пытаются прогнать более мелких и миролюбивых животных от дверей Айболита [200]. Однако здесь начальная сцена конфликта быстро перерастает не столько в классовую, сколько в межгосударственную войну зверей (что ярко отражает развитие советской политической культуры и публичного дискурса в период с конца 1920-х до начала 1940-х годов). По своему масштабу и жестокости эта сцена не сопоставима ни с какими черновыми или ранее опубликованными вариантами сказок. Бармалей теперь предстает правителем царства Свирепия, где живут одни хищные и опасные звери (гориллы, гиппопотамы, гиены, крокодилы и т. д.). Жители Свирепии — заклятые враги царства Айболита — Айболитии, где живут добродетельные и благородные существа (воробьи, лягушки, олени, пчелы и т. д.). В конце концов Айболиту и его подданным помогает доблестный Ваня Васильчиков, который прибывает из соседней страны Чудославии, чтобы одолеть врагов. Бармалей теперь — воплощение абсолютного зла (прозрачный намек на Гитлера), а его слуги-звери — жестокие и безжалостные злодеи, не имеющие ни малейшего шанса на исправление. Рассказ Чуковского о войне между двумя царствами в «Одолеем Бармалея» содержит шокирующе точные детали войны — пулеметы, гранаты, танки и т. д., — не говоря уже о крайне натуралистичных описаниях насилия, напрочь отсутствующих в более ранних произведениях. Вот как, например, Ваня Васильчиков борется с акулой Каракулой (которая прежде тонула, испугавшись хвастливых, но абсолютно выдуманных угроз Тани и Вани, в сказке «Бармалей» 1925 года и подмигивала в благодарность за то, что доктор вылечил ее детенышей, в сказке «Айболит» 1929 года): «И всадил он Каракуле/ Между глаз четыре пули» [201]. На сей раз очевидно — злобному созданию нипочем не уйти. Сцена, следующая за пленением самого Бармалея, представляет собой еще более разительный контраст с финалом более ранней сказки Чуковского, где наказанный и перевоспитавшийся злодей возвращается с Таней и Ваней в Ленинград, где собирается печь «пироги и крендели». Теперь события разворачиваются иначе:
Но Ванюша усмехнулся.
Вправо-влево повернулся
И спросил у медведей,
У орлов и лебедей:
«Пощадить ли Бармалея,
Кровожадного злодея?»
И сейчас же из лесов
Триста тысяч голосов
Закричали: «Нет! нет! нет!
Да погибнет людоед!
Палачу пощады нет!»
И примчалися на танке
Три орлицы-партизанки
И суровым промолвили голосом:
«Ты предатель и убийца,
Мародёр и живодёр!
Ты послушай, кровопийца,
Всенародный приговор:
НЕНАВИСТНОГО ПИРАТА
РАССТРЕЛЯТЬ ИЗ АВТОМАТА
НЕМЕДЛЕННО!»
И сразу же в тихое утро осеннее,
В восемь часов в воскресение,
Был приговор приведён в исполнение.
Другие комментаторы отмечали, что эстетическая невнятность сказки Чуковского (можно сказать откровеннее — ее художественная несостоятельность) связана с сознательным стремлением перенести язык сводок Совинформбюро в мир детского стихотворения [202]. По мнению И.В. Лукьяновой, эта очевидно искренняя попытка достичь наглядной актуальности, используя самые современные и самые злободневные элементы публичного языка того времени, невольно привела к пародийному освещению войны, напомнив по своему эффекту ироикомическую поэму [203]. По гипотезе Лукьяновой, именно это определило судьбу произведения: оно было напечатано в 1942 году в «Пионерской правде» и потом в том же году еще в нескольких изданиях, но было исключено лично Сталиным из антологии детской литературы 1943 года и подверглось травле в прессе, в результате чего произведение выпало из поля общественного внимания вплоть до состоявшегося несколько лет назад переиздания [204].
И тем не менее этот невольный пародийный эффект, на мой взгляд, — вовсе не главная неудача произведения Чуковского. Другие цензурные конфликты, связанные с произведениями Чуковского, поразительны и часто вызывают грустную усмешку абсурдностью идеологически подкрепленных обвинений, выдвинутых против совершенно невинных и выдающихся произведений детской литературы. Например, в случае с более ранней стихотворной сказкой «Бармалей», которая наряду с другими произведениями автора была в середине 1920-х объявлена «вредной для маленьких детей, так как они не в состоянии совершенно разобраться в его шутках и принимают за правду все его дикие рассказы про животных» [205]. Неспособность цензора-буквалиста понять, что дети умеют фантазировать, вызывает лишь улыбку. По контрасту с этими случаями очень соблазнительно во многом (о ужас!) согласиться с критикой в адрес «Одолеем Бармалея», содержащейся в статье Павла Юдина («Правда», 1944 год):
Детям доступен мир фантазий, вполне допустимо художественное фантастическое представление о действительности. Но этот художественный вымысел должен иметь свою логику и отвечать в идее хотя бы в отдаленной степени возможной реальности. Сам Чуковский напоминает, что враг
Строчит из пулемета
В перепуганных детей.
Если уж есть в сказке такие строки, то после них невозможно, немыслимо сочинять такое:
Пляшут гуси с индюками
И ромашки с васильками…
И с лопатою топор
Прискакал во весь опор.
Этим — после стрельбы в детей из пулемета — никого не развеселишь и не утешешь [206].
Конечно, требование Юдина, чтобы детская литература как-то представляла «возможную реальность», не выдерживает критики: фантазия… фантастична (если уж на то пошло, мы обсуждаем доктора, который умеет разговаривать с животными). Но его возражение, что сказке Чуковского недостает внутренней «логики», абсолютно точно. В самом деле, главная неудача этого текста состоит в том, что он трансформирует действительность недостаточно цельно и не слишком радикально, позволяя реалиям кровавой и жестокой войны, будь то леденящие душу подробности кровопролитных сражений или описания военной техники, вторгаться в фантастическое царство разумных существ и мифических пиратов. Иными словами, очевидная несуразность этой сказки состоит в том, что Чуковский смешал абсолютно аллегорическую и фантастическую сферу с чрезмерно реалистичной. Именно эта путаница несовместимых манер письма, похоже, повлияла на стиль размышлений Чуковского об этом его произведении, как, например, в его опубликованных комментариях к поэме (частично цитированных выше), где он объясняет:
Чтобы рельефнее представить эти цели [т. е. идейные цели войны. — К.П.], я и вывел знакомого им Айболита, который издавна является в их глазах воплощением доброты, самоотверженности, верности долгу и мужества, и противопоставил ему разрушительную и подлую силу фашизма[207].
Возникает вопрос: в какой чудовищной сказочной вселенной художественный персонаж Айболит мог противостоять слишком реальной фантастичности фашизма?
4Так как же нам разобраться в «странном сближении» историй доктора Дулиттла и доктора Айболита в этих двух эпизодах войны — хотя и очень разных, описанных совершенно по-разному?
Для начала обратим внимание еще на одно совпадение: момент, когда Лофтинг начал сочинять свои истории о докторе Дулиттле, совпал с зарождением современной теории психологической травмы. Зигмунд Фрейд в работе «По ту сторону принципа удовольствия» писал:
Уже давно описано то состояние, которое носит название «травматического невроза» и наступает после таких тяжелых механических потрясений, как столкновение поездов и другие несчастья, связанные с опасностью для жизни. Ужасная, только недавно пережитая война подала повод к возникновению большого количества таких заболеваний [208].
Как объясняет Фрейд в этой плодотворной работе, во многих отношениях радикально отступающей от его прежних теорий, основными симптомами психической травмы является неконтролируемое возвращение воспоминаний о травматических событиях в сновидениях и в форме разнообразных навязчивых повторений. По Фрейду, этот вид невроза стал подтверждением ранее теоретически не объясненного влечения — влечения к смерти, которое выражается в парадоксальной тяге живого организма к остановке, завершенности и гибели. Не так давно, намного позже Фрейда, тщательно изучив психоаналитические теории травмы применительно к литературной критике, Кэти Кэрут пришла к выводу, что фундаментальная особенность невротической реакции на травму отражает непознаваемую природу опыта, столь чуждого нормальному пониманию, что он не поддается восприятию или выражению на обычном языке. Это приводит к невероятно мощному возвращению воспоминаний в замаскированных, фигуральных формах, подтверждающих непознаваемость самих травматических событий: