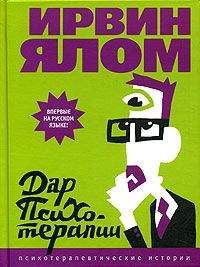Андрей Тарковский - Запечатленное время
Действительно, может ли понятие поиска ассоциироваться, скажем, с такой величиной, как Лев Толстой: старик, видите ли, искал! Смешно! Хотя некоторые советские искусствоведы почти так и говорят, указывая на его «заблуждения» в связи с «богоискательством» и «непротивлением злу насилием», — не там, значит, искал…
Поиск как процесс (иначе его понимать нельзя) имеет такое же отношение к целокупности произведения, как блуждание по лесу с лукошком в поисках грибов к уже найденному и собранному в лукошко. Только второе, то есть полное лукошко, и есть произведение искусства: содержимое лукошка есть реальный и безусловный результат, а «блуждание но лесу» остается личным делом, любителя прогулок и свежего воздуха. Обман на этом уровне равносилен злому умыслу. «Дурная привычка принимать метонимию за открытие, метафору за доказательство, словоизвержение за поток капитальных знаний, а себя самого за пророка — это зло рождается вместе с нами», — саркастически замечает все тот же Валери во «Введении в систему Леонардо да Винчи».
Тем более затруднены «поиски» и «эксперименты» в кинематографе. Тебе выдается пленка, аппаратура — и давай фиксируй на пленку то главное, ради чего делаешь фильм.
Замысел картины, ее цель должны быть известны режиссеру с самого начала. Здесь я уже не говорю о том, что никто не станет платить за неопределенные поиски. Как бы то ни было, неизменным остается только одно: сколько бы художник ни искал — это остается его частным, сугубо личным делом, с момента фиксации его поисков на пленке (пересъемки редки, и на производственном языке они означают — брак!), то есть с момента объективизации его замысла, предполагается, что художник уже нашел то, о чем он хочет рассказать зрителю средствами кино, а не блуждает в потемках поисков.
О замысле и формах его воплощения в фильме мы еще будем говорить подробно в следующей главе. Но пока необходимо коснуться другого распространенного вопроса «быстрого старения фильма», полагаемого его сущностным атрибутом. Об этом необходимо говорить в связи с вопросом «нравственной цели картины».
Абсурдно говорить, что устарела «Божественная комедия» Данте. Но фильмы, казавшиеся несколько лет назад крупными событиями, вдруг, неожиданно оказываются беспомощными, неумелыми, почти школярскими. В чем же здесь дело? Я вижу главную причину в том, что кинематографист, как правило, не отождествляет акт своего творчества с поступком, жизненно важным для себя предприятием, с нравственным усилием. Стареют намерения быть выразительным, современным. Нельзя им стать, если ты им не являешься. В искусствах, насчитывающих десятки веков своего существования, нет ничего естественнее и органичнее для художника, чем воспринимать себя не просто рассказчиком или интерпретатором, но, прежде всего, личностью, решившейся с максимальной искренностью оформить для людей свою истину о мире. А кинематографистов зачастую губит ощущение своей второсортности.
Впрочем, я даже нахожу этому объяснение. Кинематограф только ищет еще специфику своего языка, он лишь приближается к ее постижению. Движение на пути осознания кинематографом самого себя изначально тормозится его двусмысленным положением существования между искусством и фабрикой, первородным грехом его греховного ярмарочного происхождения.
Вопрос специфики киноязыка непрост, неясен еще даже профессионалам. Так, говоря о современном и несовременном киноязыке, мы часто подменяем его набором модных сегодня формальных приемов, к тому же частенько заимствованных из смежных искусств. Тут мы мгновенно попадаем в плен сиюминутных, временных и случайных предрассудков. Тогда оказывается возможным говорить, например, что сегодня «ретроспекция — последнее слово новизны», а завтра столь же амбициозно заявлять, что «всякий сдвиг во времени — отсталость, вчерашний день кино, тяготеющего ныне к классически последовательно развивающимся сюжетам». Но разве может тот или иной прием устареть сам по себе или сам по себе соответствовать духу времени? Наверное, все-таки в первую очередь следует понять, что хочет сказать автор, и лишь в связи с этим выяснить, почему он обращается к той или иной форме. Возможно, конечно, некритическое, эпигонское заимствование приемов, но тогда наш разговор выходит за пределы проблемы искусства, внедряясь в область подделок и ремесленничества.
Конечно, приемы кино, как и любого другого искусства, меняются. Как я уже упомянул, первые зрители кинематографа в панике бежали из зала при виде движущегося на них с экрана паровоза и вопили от ужаса, воспринимая крупный план как отрезанную голову, — сегодня эти приемы сами по себе ни у кого не вызывают специальных эмоций, и мы, как общеупотребимые знаки препинания, используем то, что вчера казалось ошеломляющим открытием. Правда, при этом никому не приходит в голову толковать о том, устарел ли крупный план…
Но открытие в области языка, прежде чем стать общеупотребимым, должно явиться как естественная и единственная возможность художника средствами своего языка максимально полно приблизиться к передаче своего мироощущения. Художник не ищет приемы сами по себе ради эстетики, а вынужден в муке изобретать средства, способные адекватно сформулировать авторское отношение к действительности.
Инженер изобретает машины, руководствуясь насущными потребностями человека — он хочет облегчить людям труд и тем самым жизнь. Но, как говорится, не хлебом единым… Можно сказать, что художник расширяет свой арсенал для того, чтобы облегчить людям общение, то есть возможность понимания друг друга на самом высоком интеллектуальном, эмоциональном, психологическом, смысловом уровне. Поэтому можно сказать, что усилия художника также направлены к тому, чтобы улучшить, усовершенствовать жизнь, облегчить взаимопонимание людей.
Иное дело, если художник далеко не всегда бывает прост и ясен, — отсюда возникают естественные сложности в его рассказе о себе и своих размышлениях о жизни, иногда не очень легко доступные пониманию. Но общение всегда требует усилий. Вне усилия, вне страстного желания — постижение одного человека другим попросту невозможно.
В таком случае открытие в области метода становится открытием человека, обретшего дар речи. И здесь можно говорить о рождении образа, то есть откровении. А те средства, которые были изобретены вчера, чтобы поведать о выстраданной, выношенной правде, — завтра вполне могут стать и становятся зачастую расхожим стереотипом.
Если ловкий ремесленник рассказывает о постороннем ему предмете на самом высоком уровне современного изложения, если он не глуп и наделен определенным вкусом, то он может ввести зрителя в заблуждение. Но все-таки преходящее значение фильма довольно скоро становится очевидным. Время рано или поздно неумолимо разоблачит то, что не выражает взглядов неповторимой личности. Ведь творчество не просто способ оформления объективно существующей информации, требующей некоторых профессиональных навыков. Оно является, в конце концов, самой формой существования человека, уникальным, единственно возможным для него способом выражения. И разве приложимо вялое слово «поиск» к вечно требующему нечеловеческих усилий преодолению немоты!
Глава пятая
Образ в кино
Скажем так: духовное, то есть значительное, явление «значительно» именно потому, что оно выходит за свои пределы, служит выражением и символом чего-то духовно более широкого и общего, целого мира чувств и мыслей, которые с большим или меньшим совершенством в нем воплотились, — этим и определяется степень его значительности…
Томас Манн «Волшебная гора»Наивно предполагать, что в этой главе я попытаюсь сформулировать такое понятие, как художественный образ, в определенном тезисе, легко произносимом и усваиваемом. Это невозможно и нежелательно одновременно. Я могу только сказать, что для меня очевидно — образ устремляется в бесконечность и ведет к Богу. И даже то, что называется «идеей» образа в ее действительной многомерности и многозначности, принципиально невозможно выразить словами. Саму идею бесконечности нельзя выразить словами — это делает искусство. Когда я выражаю мысль в искусстве, то это означает, что я нахожу некоторую форму, которая бы максимально адекватно выражала ту идею, которая составляет мой мир, мои стремления к моему идеалу…
В этой главе я только постараюсь осмыслить рамки возможной системы, которую принято называть образной, в рамках которой я чувствую себя органично и свободно.
Бросив даже мимолетный взгляд назад, на ту жизнь, которая остается за тобою, вспоминая даже не самые яркие минуты прошлого, все-таки всякий раз поражаешься уникальности тех событий, в которых ты принимал участие, неповторимости тех характеров, с которыми ты сталкивался. Интонация уникального доминирует в каждом мгновении существования — уникален сам принцип жизни, который художник всякий раз заново старается осмыслить и воплотить, тщетно надеясь всякий раз на исчерпывающий образ Истины и Правды человеческого существования. Красота — в самой жизненной правде, если она вновь освоена и преподнесена художником со всей своей искренностью и неповторимостью.