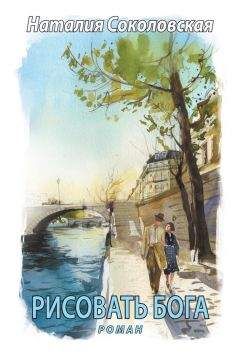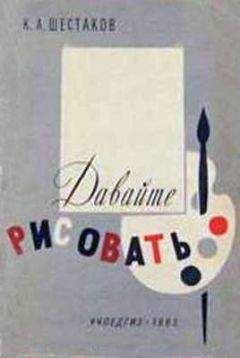Михаил Ромм - О себе, о людях, о фильмах
Ему хватало творческой энергии. Не хватило жизни. За несколько минут до смерти Михаил Ромм работал. На пути к его дому был Герман Лавров — они должны были встретиться, чтобы отобрать фотоматериалы…
Завершили картину ученики Ромма, она вышла на экран под названием «И все-таки я верю»…
14 картин и одна жизнь
От автора[1]
Итак, пришел час воспоминаний.
Я полагаю, что у каждого человека, когда приходит его время, возникает опасное и соблазнительное желание вспомнить свою жизнь. Судьба каждого из нас представляется нам поучительной, особенной и не похожей на другие судьбы. Помните, у Толстого, когда Левин, не зная, куда девать свое счастье, изливает душу первому, кто согласен слушать его, — коридорному в номерах, то коридорный, заразившись чужим волнением, вдруг страстно подхватывает:
— Моя жизнь тоже была очень удивительная! Я сызмальства…[2]
Но тут, по прихоти Толстого, звонок из номеров обрывает чуть было не состоявшиеся мемуары.
Разумеется, жажда излиться возникает у каждого по-своему и в результате самых разных побудительных причин…
Иные пишут воспоминания от злости, другие же, наоборот, из чистой добросовестности.
Я веселый… Я прожил легкую жизнь. Мне все удавалось, меня считали везучим и даже приносящим счастье. Мне скоро 70. По меньшей мере две трети моей жизни я был веселым счастливчиком: захотел стать скульптором] — стал, захотел стать сцен[аристом] — стал, зах[отел] стать реж[иссером]. Все смог. [Так] что будут воспоминания счастливчика, воспоминания оптимиста![3]
Писателей заставляет приниматься за воспоминания наличие записной книжки и зрелый возраст: жажда к литературному сочинительству иссякает, а привычка писать остается. В результате возникают воспоминания, и часто это лучшее, что создает писатель.
Почему пишут воспоминания кинематографисты — не знаю.
Я лично решил писать в результате инфаркта. Поверьте, это могучий стимул!
Я решил так: надо спешить. Ежели я вскорости поправлюсь, то воспоминания можно отложить, чтобы не повторить ошибку де Голля, который написал три толстых тома, а потом начудил еще на три тома.[4] Зато, если меня уложило (или, скажем, усадило) надолго, — то самое время писать.
Были ведь у меня интересные и ни на что не похожие встречи, были интересные и очень непохожие знакомые, родственники, друзья, попадались мне люди и события, о которых я нередко рассказывал приятелям, и в этих рассказах, говорят, было даже кое-что поучительное.
Рассказывать я любил всегда.
Однажды мой покойный брат Саня, Александр, прелестный и умнейший человек, слушал меня и хохотал, — а хохотать он любил до слез, до икоты. Потом, перестав смеяться, он внимательно посмотрел на меня и сказал:
— А знаешь, какой у тебя основной, решающий талант? Ты разговорщик! Ты превосходно рассказываешь и вообще здорово говоришь. Это в тебе самое главное. Остальное — так, между прочим. И скульптура твоя была между прочим, и пишешь между прочим, и кино между прочим. Главное твое дарование — это язык. Ты, брат, просто великий трепач.
— Неужели великий? — сказал я.
— Ну, выдающийся.
Я был польщен.
Во всяком случае, я продолжал рассказывать — часто, охотно и многим.
Потом появился портативный магнитофон — проклятый капитализм, будь он неладен, соблазнил: уж очень был хорош!
Я стал наговаривать свои рассказы. Наговорил несколько кассеток, часов на десять, решил продолжать, сделать нечто вроде устной книги рассказов… И тут — инфаркт.
После инфаркта стало трудно рассказывать.
Ведь это тяжелая работа, она требует, простите, вдохновения, огромной отдачи сил: говоришь фразу, а в это же самое время готовится где-то внутри следующая и уже брезжут совсем в глубине еще и еще смутные наметки и обороты, а рассказ прерывать нельзя, и оговариваться нельзя, и речь должна литься свободно, мягко, неторопливо. Три потока сознания и открытая речь — это не легко.
Писать сейчас мне легче. Раньше было труднее, может быть, просто скучнее: перо задерживало мысль. Пишется фраза, держит на привязи, сбивается ритм — иной раз, пока пишу, забываю, что именно хотел сказать.
А сейчас писать мне легче. Можно поправить, подождать, переделать: куда мне торопиться? — инфаркт! Словом, я решил писать свои рассказы и назвать их «14 картин и одна жизнь», потому что жизнь у меня была одна, а картин я успел сделать именно четырнадцать, и не знаю, сделаю ли еще одну, а если сделаю, — что у меня получится.
Кстати, число 14 связано у меня с довольно сложными обстоятельствами. Вообще-то я всегда считал, что мое счастливое число — 13. На XIII Карлововарском кинофестивале,[5] когда я получил премию за мою тринадцатую картину «Девять дней одного года», мне предложили на приеме произнести традиционный шутливый тост. Я встал и сказал тост, полагая, что он достаточно
остроумен:
— Дорогие друзья! Я ни на минуту не сомневался, что получу эту премию. Дело в том, что мое счастливое число — 13. Я сделал картину «Тринадцать». На этой картине я женился. Женат счастливо 26 лет, то есть два раза по тринадцать. «Девять дней одного года» — это моя тринадцатая картина. Наш фестиваль — тринадцатый международный. Он открылся 13 июля. У меня не было ни малейших сомнений, что премия — моя. Благодарю вас за внимание.
Мне похлопали, но тут встал Бернар Блие, чудесный актер и веселый человек. Он сказал:
— Дорогой господин Ромм! У нас во Франции есть такой анекдот: один господин приехал из-за границы в Марсель, как и вы, 13 июля, сел в поезд № 13, вагон № 13, место № 13. В Париже в гостинице был один свободный номер — тринадцатый. Бедняга был так поражен, что заперся в этом тринадцатом номере и ждал 13 дней. Наконец он пошел в казино, поставил все свои деньги на номер тринадцать и выиграл тринадцать миллионов. Назавтра он отправился на скачки, поставил все тринадцать миллионов на кобылу номер тринадцать, и она пришла тринадцатой. (Смех, аплодисменты.) Господин Ромм, — закончил Блие, — я не сомневаюсь, что «Девять дней одного года» — это ваше казино. Но помните: за ним следует кобыла. Берегитесь кобылы, дорогой господин Ромм! (Бурные аплодисменты, смех, все пьют чешское пиво.)
Признаюсь, тост Блие гораздо лучше.
Еще важнее то, что он заставил меня призадумываться. Мысль о кобыле № 13 тревожила меня. В конце концов я решил перехитрить себя и сделать четырнадцатую картину документальной. Роковое число сыграло важную роль в решении делать «Обыкновенный фашизм».
А кобыла действительно была. Я имею в виду не только инфаркт. Инфаркт, так сказать, прискакал на кобыле.
Итак, приходится писать.
В качестве образчика мне хотелось бы избрать кратчайшие мемуары того самого коридорного из номеров, где останавливался Левин. В самом деле, моя жизнь тоже была «очень даже удивительная», и меня тоже часто прерывают звонками. Вот только боюсь, что не сумею быть до такой степени лаконичным.
Во всяком случае, я буду писать все, что придет на перо. Я не буду искать ни точной последовательности, ни сквозной идеи. Что вспомню — о том и напишу. Лишь бы было интересно. Там, где интересно, непременно есть смысл. Скучное — бессмысленно. Скучные воспоминания пусты, как сама смерть, а от этой спутницы я постараюсь держаться как можно дальше, как можно дольше.
Вот и все.
[Мне удалось повидать жизнь с самых различных сторон…][6]
Родился я в январе 1901 года в Иркутске. Мой отец, один из первых в России социал-демократов, врач по образованию, был сослан в Восточную Сибирь.
Детство мое прошло в Забайкалье, недалеко от Верхне-Удинска.[7]
Отбывши срок ссылки, отец переехал в Вильно, а потом в Москву. Здесь я окончил гимназию в начале 1918 года.
Сразу после окончания гимназии я поступил в так называемые «Свободные государственные художественные мастерские» (бывшее Училище живописи, ваяния и зодчества), в скульптурную мастерскую А. С. Голубкиной. Это была очень своеобразная величественная старуха, курившая крепчайшую махорку. Она привила мне любовь и уважение к искусству.
Проучился я у Голубкиной очень недолго, потому что мне пришлось начать самостоятельную жизнь. Я поступил в продовольственную экспедицию некого Шлихтера, который тогда был назначен чуть ли не диктатором Ефремовского уезда Тульской губернии или чем-то в этом роде.
Поздней осенью 1918 года я приехал в Ефремов, где на путях около станции стоял поезд. В этом поезде я прожил месяца два, что-то делал и, во всяком случае, научился там пить водку, курить и играть в карты. Было мне тогда 17 лет.
Потом меня послали в деревню в качестве продовольственного агента. Я жил на мельнице, разъезжал по деревням и реквизировал излишки хлеба у кулаков.