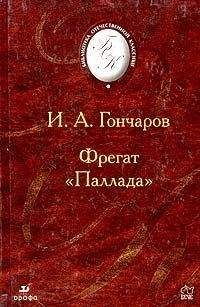Андрей Губин - Афина Паллада
Не раз мы возвращались в общежитие вместе, но держались отчужденно, говорили на общие темы. Но как-то в особенно лютый ветер мы отстали от товарищей, и она спросила меня, дрожа в осеннем пальто:
— Почему вы не писали мне? Я ждала, думала…
Я пожал плечами. Сумрак окутывал Старую Ригу. Ленты бескозырок хлестали по глазам идущих матросов. Мы шли по мягким деревянным торцам мостовой. На понтонном и на резном деревянном мостах вдали тянулись редкие цепочки огней. Слабо светились стрельчатые с витражами окна — энергии не хватало, освещались коптилками и свечами.
— Да, помнила. Особенно, когда мне было плохо. Я была уверена, что вы напишете, даже ходила на главпочтамт до востребования. Когда я увидела вас в трамвае, вспомнилось из Достоевского: «Я ваши глаза точно где-то видел… да этого быть не может! Это я так. Я здесь никогда и не был. Может быть, во сне».
Я шутя ответил, что впредь при отлучках буду писать — тогда я не знал, что писать ей придется всю жизнь.
Звали ее Аурелия.
Общежитие только строили. Старшекурсники жили в угрюмом складе без окон, с башней, где удобно разве что звездочетам. Мы ютились в кубриках старой лайбы, учебного судна института. Имя у пароходика романтичное — «Рита». Самые умные из нас спали между котлов — один топился, давая пар на обогрев и динамомашину. Мы сами красили «Риту», готовясь с весны бороздить Рижский залив. Стояла она в Андреевской гавани.
В тот холодный зимний вечер меня охватила тоска, уныние. Я решил пройти в девичьи каюты, поболтать, а может, где и погреться фруктовым чаем с хлебом и сахарином. Хлеб мы получали по карточкам.
Я сунул в карман «эклер», превратившийся в сухарь, и два чудом купленных мятых мандарина. Походив по кораблю, наугад толкнул дверь в кают-компанию.
Там сидела Аурелия. Одна. Над электроплиткой тускло тлела змейка спирали. Голова закутана в белый шерстяной платок. Поверх пальто одеяло. Удивительно похожая на птицу, странно залетевшую в обычный мир студенческого неуюта.
Я тоже протянул руки к плитке. Она с готовностью уступила мне часть тепла. И мы посмотрели друг на друга. И смотрели долго.
За железным бортом плескалась ледяная Даугава.
— Я вас люблю! — сказал я, еще за миг совершенно не зная, что скажу так.
— Тебя так долго не было! — заплакала она. — Ты теперь не оставишь меня одну?
Я обнял ее — сильно дуло в неплотные иллюминаторы.
— Пирожное? — по-детски обрадовалась она «эклеру». — Вот хорошо! Я потеряла хлебные карточки. И поэтому не встречала Новый год.
— Ничего, проживем эти двадцать дней на мои четыреста граммов, — утешал я ее, целуя глаза, живущие на лице отдельной, самостоятельной жизнью.
И, как волшебник в доброй рождественской сказке, достал к засохшему пирожному два мандарина с зеленоватой кожицей. Еловая ветка у нее была, и мы украсили нашу елку всеми сокровищами мира, оказавшимися в тот вечер под рукой: мандаринами, дневным пайком хлеба, пачкой из-под макарон и серым медвежонком, который жил у нее в чемодане под маленьким одеяльцем. На плитке запел кофейник.
Вот так, над крохотным очагом тепла, в пустынной гавани, на корабле, началась наша любовь.
Высокие зеленые волны. Ловкая шлюпка с косым парусом. Мы несемся с «Риты» к берегу, где в осенней лени созрели овощи, от хуторов пахнет копчеными колбасами и горячим хлебом.
Мы грузим «Риту» поленьями дров, ходим в гости к старым капитанам, которые упорно говорят с нами только по-английски, слушаем скрип ветряных мельниц, вспоминая их славного ламанчского противника.
На пути в Ригу лопнул цилиндр машины. Волна забивала нас. Лишившись хода, мы потеряли управление. Институтский парторг, демобилизованный майор, разбудил нас, объяснил положение. Команда — несколько моряков — раздала пробковые жилеты, готовила шлюпки и круги. Ночное море ревело. Огнями мы сигнализировали бедствие.
Вдруг из воды вынырнул белопарусный корабль — учебная бригантина военно-морского училища. Бригантина отвечала: иду на помощь, готовьте трос.
Стальной тяжелый трос не перебросишь с борта на борт, а сближаться кораблям опасно. Молодой рыжий боцман выбрал меня. Аурелия умоляюще сложила руки на груди. Спустили шлюпку. Боцман греб, я держал конец колючего троса.
Парусник заметил нас, направил луч света. Выждав момент, матрос-курсант метнул манильский тросик с гирькой. Боцман поймал его с третьего раза. Шторм рос. Временами мачты бригантины оказывались ниже нашей шлюпки. Но трос уже на бригантине. А боцман оказался сущим морским волком — через полчаса мы уже сушились на «Рите».
Бригантина прибавила парусов, рискуя завалиться на борт, и вела нас на буксире.
Утро мы с Аурелией встретили в штурвальной рубке — я стоял на руле. По успокаивающимся волнам гордо летела бригантина с парусами, до предела налитыми синим ветром и солнцем. Мы распевали флибустьерскую песню о знатной леди и простом матросе.
С бригантины явилась делегация курсантов, высокомерно вежливых, наутюженных, несмотря на шторм. Синеглазый мальчик с высокой сильной шеей так и впился глазами в Аурелию, постоянно обращался к ней, сыпал морскими словечками, предложил встречаться в клубе моряков. Она только смеялась, женщина, похожая на школьницу. Я улыбался спокойно.
Хотелось увековечить эту ночь и стаю парусов, несущихся по зеленым хребтам. И мы вырезали на штурвале наши имена, как дети пишут их на деревьях, заборах и асфальте. И конечно, в сотый раз поклялись в вечной верности.
Встречали нас как героев — мы привезли дрова для института на всю зиму.
Вскоре «Риту» передали рыбному флоту. Мы видели ее редко. Но помнили: наши имена вписаны в красный круг мозолистого штурвала — наше брачное свидетельство.
Мы были счастливы, а настоящий шторм только приближался. Дело в том, что я был женат, в деревне у меня росла дочь, с женой мы прожили недолго, мы не любили друг друга, но наши родители хотели объединить два хутора, чтобы со временем нам жилось хорошо. Аурелия не придавала этому значения, даже радовалась, «что у нас уже есть дети».
Первой вызвали ее. Профорг Эмилия Сергеенкас, старшекурсница, грубо отчитала Аурелию «за распущенность». Аурелия проплакала весь вечер.
Потом директор института, ученый с мировым именем, устало говорил мне:
— Артур, вам нужно урегулировать свои отношения с женой.
— Мы давно разошлись с ней, только не разведены, она любит другого.
— Тем более. А пока не появляться на людях с другой женщиной. Работа наша особая. Вам не дадут визу на загранплавание. И вы упустите все золото мира — лунные тропики, многомильные айсберги, честь флага родины в далеких морях… А вы талантливы, Ваша последняя работа обещает стать диссертацией.
В тот же день я получил отпуск на урегулирование семейных отношений и выехал вечерним поездом.
— Будь хорошим там, не груби, — попросила меня Аурелия на вокзале.
В суд мы пришли с женой и ее парнем. С ними судья поздоровался участливо, со мной брезгливо, увидев в моих руках заявление о разводе. Он долго говорил о моральных устоях, о значении семьи в новых условиях, о суровых законах, карающих двоеженцев и укрывающихся алиментщиков. Ушли мы не солоно хлебавши — достаточных причин для разрушения семьи не имелось.
В институте на меня смотрели с сочувствием, на Аурелию — с гневом и осуждением. Плоская, как доска, Эмилия не замечала нас. Только подбадривающе кивал парторг — ничего, перемелется! Работы было много. Аурелия давала после занятий уроки на фортепиано, я учился в вечерней школе штурманов.
Через какое-то время собрался актив по нашему персональному делу. Эмилия резко осудила наше «вызывающее» поведение, «недостойное советских студентов». Ее поддержал некто из министерства. По чину он был старше всех присутствующих, хотя наша наука не знала его имени. Ему не перечили. Страх, подавленность, ложь и равнодушие читал я на лицах многих студентов. Только яростно бросались в бой за нас первокурсники — неостывшие души. Одна девочка даже разрыдалась, выступая в нашу пользу, и швырнула в директора студенческий билет. Директор глаз не поднимал. За нас ярко и остроумно говорил парторг. Ему аплодировали как интересному оратору — не больше. Тон задавала рябоватая припудренная Эмилия — оскорбленная добродетель. Между прочим, на первом курсе она влюбилась в меня, приглашала домой в гости, а однажды тайно выстирала мои рубашки.
В конце концов мы почувствовали себя виновными. В самом деле: недавно окончилась самая кровопролитная в истории война, кругом разруха, голод, а мы изображаем из себя, как сказал некто из министерства, Ромео и Джульетту. Красивым почерком Эмилия записала в протокол: «Обязать прекратить дальнейшую жизнь»…
Я читал эти записки весенней ночью. В дни описываемых событий мне было четыре года, и я жил с бабушкой на окраине Таллина. Мои родители, как и теперь, жили за границей, на дипломатической службе. Я называю их по имени-отчеству, а бабушку мамой. Однажды я и Ангелина Александровна, моя мать, услышали о себе в театре: «Какая чудесная пара!» — так она выглядит.