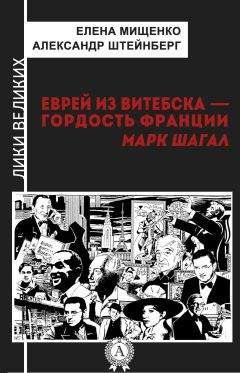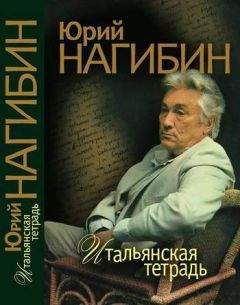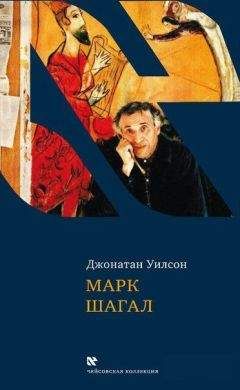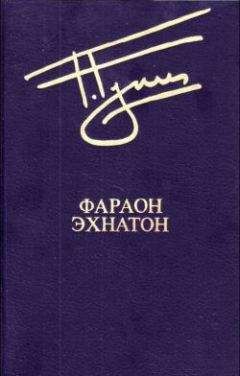Марк Шагал - Моя жизнь
Меня вполне устроило бы какое-нибудь захолустье. Чем плохо?
Я бы сидел в синагоге и смотрел в окно. Просто сидел бы и смотрел. Или на скамейке у реки, или ходил бы в гости.
Солдат и жена. 1914. Бумага, тушь.И писал, писал бы картины, которые, может быть, поразят мир.
Не суждено.
В один прекрасный день — это только так говорится, а вообще-то день был дождливый — настает мой черед, и я тоже карабкаюсь в вагон, переполненный новобранцами, которые ругаются и дерутся за место.
Еле держусь на ступеньках. Поезд трогается. Прижимаюсь к спине стоящего впереди. Поехали.
Счастливчики, пробравшиеся внутрь, отпихивают остальных и дают советы.
— Дай ему (то есть мне) по морде, да и все.
Стоит им только податься назад, шевельнуть заплечными мешками — и я свалюсь на рельсы, в темные заснеженные поля.
Что есть сил сжимаю поручень, руки мерзнут и деревенеют.
Состав летит вперед, лечу и я.
Плащ надувается, как парашют, хлопают застывшие на морозе полы.
Так я приехал в Петроград. Зачем?
Там нашлась для меня на время войны тихая гавань — военная контора, где я сидел и строчил бумажки.
Начальник безжалостно тиранил меня.
Это был мой шурин, который все боялся, как бы ему не попало за мою нерадивость, вот и придирался.
Бывало, подойдет, попросит какую-нибудь справку. Но поскольку я — увы! — почти никогда не мог найти требуемое, он расшвыривал мои бумажки и в бешенстве орал:
— Что у вас за кавардак? Что вы тут развели?
Помилуйте, Марк Захарович, не знать таких вещей, ведь это элементарно!..
Выпученные глаза, багровые щеки — мне становилось жаль его.
Я невольно улыбался.
Впрочем, в конце концов он кое-что сумел мне вдолбить: я научился худо-бедно разбираться во «входящих и исходящих». И даже мог состряпать докладную.
По сравнению с этой службой фронт казался мне увеселительной прогулкой, этакой гимнастикой на свежем воздухе.
Вечером я уныло брел домой.
И чуть не плакал.
Жена, которой я рассказывал о своих муках, молча слушала и сочувствовала.
Счастье, если удавалось вечером хоть немного подержать в руках кисть или поболтать с приятелем, врачом и литератором по имени Баал-Машковец-Эльяшев[39].
Эта дружба была для меня большой поддержкой в трудное время.
Познакомились мы в доме у коллекционера Каган-Шабшая во время горячего диспута о судьбах искусства.
Каган был одним из первых покупателей моих картин. Он выбрал несколько штук для национального музея, который собирался основать.
Каждый вечер мы с Эльяшевым бродили в потемках по улицам и он изощрялся передо мной в красноречии.
Порой резко поворачивался, заглядывая мне в лицо и поблескивая очками.
Я видел его черные усики и острые, пристальные глаза.
Добродушный скептик, он говорил, слушал, спорил, размахивая руками и прихрамывая.
Мы очень сблизились.
Случалось, я оставался у него ночевать, и тогда он болтал до утра при слабом свете ночника у изголовья. Рассуждал о писателях, о войне, вообще о жизни, об искусстве, о революции, о своем племяннике наркоме, без конца говорил о жене, которая от него ушла.
Она была совсем молоденькая, когда они встретились. И редкая красавица. Высокая, стройная, смуглая, с черными глазами, молчаливая и замкнутая.
Ее не трогали ни литературные успехи моего друга, ни его любовь. Его обожание она принимала холодно и равнодушно. А в один прекрасный день оставила его и ушла к другому.
— Что поделаешь, — говорил мой друг, — вы же понимаете, ей нужен мужчина, достойный ее. А посмотрите на меня: кривобокий да еще слюной брызгаю.
С утра он ждал больных. Впустую.
Потом он принимался писать.
Не раз в эти голодные и холодные годы он делился с нами своим пайком конины. Пировали у него на кухне. Рядом играл его сынишка, которого он растил, как умел.
Держа дрожащими руками стакан чаю, он говорил без умолку. Чай остывал в ледяных ладонях и, наконец, проливался на стол. Я допивал свой стакан, а он все говорил, поправляя очки, поминутно норовящие упасть прямо в чай.
Еще одному другу показывал я свои картины — достопочтенному Сыркину.
Близорукий, чтобы что-нибудь разглядеть, он вооружался биноклем. При встрече же мог сослепу наткнуться на вас.
Он нежно опекал меня.
Где все вы ныне?
Немцы одержали первые победы…
Немцы одержали первые победы.
Удушающие газы настигали меня даже на службе, на Литейном проспекте, 46.
Живопись моя заглохла.
Как-то темным вечером я вышел из дому один. Пустынная улица бугрится булыжниками.
Где-то в центре погром.
Бесчинствует банда молодчиков.
Они разгуливают по улицам в шинелях нараспашку, без погон, и развлекаются тем, что сбрасывают прохожих с мостов в воду. Слышны выстрелы.
Мне хотелось видеть все своими глазами.
И я осторожно отправился в центр.
Фонари не горят, жутковато, особенно когда проходишь мимо мясных лавок. Там заперты на ночь — последнюю в их жизни — телята. Лежат рядом с колодами, мясницкими ножами, топорами и жалобно мычат.
Вдруг из-за угла прямо передо мной вырастают громилы — четверо или пятеро, вооруженные до зубов.
Обступают меня и без околичностей:
— Жид?
Я колебался секунду, не больше. Ночь. Откупиться нечем, отбиться или убежать не смогу. А они жаждут крови.
Моя смерть была бы бессмысленной. Я хотел жить.
— Ну, так проваливай подобру-поздорову.
Не теряя времени, я поспешил дальше в центр, где бушевал погром.
И все услышал, все увидел: как стреляют, как сбрасывают людей в реку.
Домой, скорей домой!
«Хоть бы Вильгельм остановился в Варшаве или в Ковно, — молился я, — хоть бы не дошел до Двинска! А главное, не тронул бы Витебска! Там мой дом, там я работаю — пишу картины».
Но Вильгельму повезло: русские воевали плохо. Впрочем, даже если бы оборонялись изо всех сил, все равно не сдержали бы натиска. Наши хороши только в наступлении — тут им нет равных.
Каждое новое поражение давало командующему армией великому князю Николаю Николаевичу повод для новых нападок на евреев.
«Выслать в двадцать четыре часа! Или расстрелять! А лучше и то, и другое!»
Немцы наступали, и еврейское население уходило, оставляя города и местечки.
Как бы я хотел перенести их всех на свои полотна, укрыть там.
Солдаты грозили небу кулаками. Бежали с фронта. Прощайте, вшивые окопы! Хватит взрывов и крови!
Бежали неудержимо, выбивали в вагонах окна, брали приступом ветхие составы и, набившись как сельди в бочки, ехали в города, в столицы.
Свобода полыхала у всех на устах. Сливалась с бранью и свистом.
Сбежал и я. Прощай, служба, прощайте, чернила, бумажки и реестры.
Я дезертировал, как все.
Свобода и конец войне!
Свобода. Полная свобода.
И грянула Февральская революция.
Первой моей мыслью было: больше не придется иметь дело с паспортистами.
Все началось с бунта Волынского полка.
Я бросился на Знаменскую площадь, с Литейного на Невский и обратно.
Везде стрельба. Наготове пушки. Все вооружаются.
«Да здравствует Дума! Да здравствует Временное правительство!»
Артиллеристы перешли на сторону народа. Увозят пушки с позиций.
Части одна за другой приносят новую присягу. За солдатами — офицеры, моряки.
Перед Думой гремит голос председателя Родзянко:
— Помните, братья, враг еще у нашего порога! Клянемся же!..
— Клянемся! Ура!
Кричали до хрипоты.
Все теперь пойдет по-новому.
Я был как в чаду.
Не слышал даже, что говорил Керенский. Он — в апогее славы. Наполеоновский жест: рука за пазухой; наполеоновский взгляд. Ходили слухи, что он спал на императорском ложе.
Кабинет кадетов сменили полудемократы. Потом пришли демократы.
Единства не получилось. Крах.
Тогда Россию решил спасти генерал Корнилов. Орды дезертиров захватывали поезда.
«По домам!»
Настал час эсеров. Чернов произносил речи в цирке.
«Учредительное собрание! Учредительное собрание!»
На Знаменской площади, перед статуей Александра III передавали друг другу:
— Ленин приехал.
— Какой Ленин?
— Ленин из Женевы?
— Он самый.
— Уже здесь.
— Не может быть!
— Долой! Гнать его! Да здравствует Временное правительство! Вся власть Учредительному собранию!
— А правда, что он приехал в пломбированном вагоне?
Актеры и художники Михайловского театра решили учредить Министерство Искусств.
Я сидел у них на собрании как зритель.
Вдруг среди имен, выдвигаемых в министерство от молодежи, слышу свое.