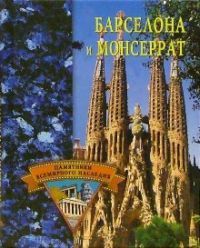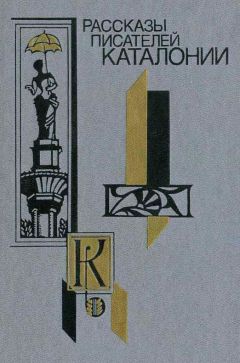Николай Федь - Литература мятежного века
III
Перспективы исторического развития мира тесно связаны с активным началом человека, превратившегося из объекта истории в ее субъект. "История не делает ничего, она не "обладает никаким необъятным богатством", она "не сражается ни в каких битвах"! Не история, а именно человек, действительный, живой человек - вот кто делает все это, всем обладает и за все берется. История не есть какая-то особая личность, которая пользуется человеком как средством для достижения своих целей. История - не что иное, как деятельность преследующего свои цели человека16. В то же время участник и творец истории, человек соотносится в первую очередь только с ней. Горький вспоминает встречу с раненым Лениным. Глядя на "заблудившегося" писателя, тот сказал: "Люди, не зависимые от истории, - фантазия. Если допустить, что когда-то такие люди были, то сейчас их - нет, не может быть. Все, до последнего человека, втянуты в круговорот действительности, запуганной, как она еще никогда не запутывалась". Мысль о том, что в круговорот истории втянуты все, до последнего человека, чрезвычайно важна для понимания современной действительности.
Именно в этой связи возникает необходимость некоторых существенных уточнений. Известно, что роль литературы в общественной жизни России столь значительна, что суждения о ней неизбежно приводят к постановке важнейших вопросов истории и современности, политики и идеологии, а равно и природы социальных воззрений. Поэтому возвращение к данному разговору вполне оправданно, особенно сейчас, когда продолжается обесценение всего что ни есть значительного во всех сферах нашего бытия. Как правило, это делается целенаправленно, а порою и по недомыслию или даже по чрезмерному желанию казаться бесстрастным и объективным. Не углубляясь в проблему, которая заслуживает серьезного научного исследования, остановимся на конкретном, но весьма любопытном примере.
Имя Александра Зиновьева хорошо известно определенному кругу нашей сегодняшней интеллигенции. После его возвращения в Россию (1999 год) о нем много пишет патриотическая пресса, а сам он охотно дает интервью, рассказывает о себе. Так что кое-что мы узнаем, так сказать, из первоисточника. Одно из таких выступлений бывшего эмигранта привлекло и наше внимание, поскольку в нем идет речь не только о русском характере, убеждениях автора, но и о советской литературе17.
Но сначала о его мировоззренческих убеждениях. "Я жил, - говорит он, и живу в изоляции (...) И пишу я в изоляции. Все, что написано на Западе, сделано не по велению души, а по заказу. Это то необычное, что случилось со мной в эмиграции. То есть из свободного человека я превратился в раба. В полном смысле". Итак, раб - это ужасно. Что же он сочинил в таком своем рабском положении? Многое, и литературно-публицистические вещи "Зияющие высоты", и "Гомо советикус" в том числе. Когда корреспондент газеты намекнул, что эти книги считались у нас антисоветскими, то писатель-философ, к тому же опытный полемист, тут же парирует: "Я протестую. Они не просоветские, но они не антисоветские. Это книги писателя о своем обществе. Я писатель-сатирик, писатель-аналитик. Не больше того. У меня обнаружились способности писать книги определенного рода. Таким же образом у людей обнаруживается голос. Так вот, я пел моим голосом". Возможно. Но все это как-то не стыкуется друг с другом: раб, в "полном смысле", и он же поет своим голосом, обнаруживая способность писать по-своему. Что-то вроде, простите, сказочки для несмышленышей.
Или вот такое: "В общем-то в последний период произошла страшная вещь: метили в коммунизм, а попали по народу. Я долго противился этому выводу, но не нахожу аргументов против". Мы в России давно поняли эту столь трудную для Зиновьева истину - еще в 1918 году - и в последний период много и аргументированно писали о сем предмете. Знают об этом и на Западе, в Америке, и во всем остальном так называемом "цивилизованном мире"... Странно слышать утверждение из уст ученого человека об отторжении идеи от народа, овладевшей его сознанием, а государства - от социальных, правовых и прочих условий жизни его граждан. По словам Зиновьева, теперь он "не стал бы писать свои книги (...) потому что испытываю сейчас чувство вины за то, что произошло... Не стал бы писать "Зияющие высоты" и все последующие". За этими словами снова следует полупризнание: "Ведь на Западе мои книги тоже не воспринимали так, как они написаны. Они воспринимались как антисоветские, антикоммунистические (...) Но они делали свое дело. Они работали". И снова зигзаг: "Может быть, если через сто лет их раскопают, к ним отнесутся по-другому... " Как говорится, дай-то Бог нашему теленку волка съесть.
Пойдем дальше. Сегодня Зиновьев заявляет, что возвратился на родину, чтобы быть среди тех людей, которые "работают в пользу любой России и надеются на ее выздоровление". В том-то и дело, что речь идет не о любой!
Из своего двадцатилетнего далека и измышленных за письменным столом научных постулатов Зиновьев вынес стойкое буржуазное убеждение, в котором нет места социальным народным идеалам, классовой борьбе, разнообразию типов государственного устройства, т. е. диалектике развития. Но это уже его личные заботы.
Нас же здесь больше интересуют литературные взгляды писателя-аналитика. В мае 1993 года он так выразился о Шолохове: "Я раз 20 перечитывал "Тихий Дон" (...) Такую гениальную книгу мог написать только начинающий автор". Что можно было сказать о такой оценке великого писателя? Мы предпочли кое-кому просто напомнить: "У гения своя пора зрелости. И своя судьба"18. На этот раз Зиновьев о современной литературе высказался более определенно: "Советская литература, особенно литература 20-30-х годов - это беспрецедентная литература... Поэзия этого времени". Иначе говоря, он повторяет расхожее и далекое от истины утверждение тех, кто противопоставляет литературный процесс 20-30-х годов всему последующему художественному развитию. Кстати, Леонид Леонов иронически относился к популярному на Западе мнению и среди столичной диссидентствующей интеллигенции, будто 20-е годы являются "золотым веком" русской литературы. Но вот, кажется, собственное мнение нашего автора: "Если бы не было таких талантов, как Маяковский, Пастернак, число гениев в мировой литературе уменьшилось бы на десять порядков... "
Здесь ли надо искать образец литературного вкуса? И мы сильно преувеличили бы серьезность подобных утверждений, если бы стали оспаривать их. "Сейчас, - продолжает Зиновьев, - Горького ругают, а я считаю Горького великим писателем. Или Шолохов... Я сейчас перечитываю литературу советского периода: "Бронепоезд 14-69" Иванова, "Оптимистическую трагедию" Вишневского, "Любовь Яровую" Тренева, "Гадюку" Алексея Толстого. Сейчас так писать не могут!" Такая оценка 20-30-х годов носит слишком отвлеченный, абстрактный характер, а следовательно, выражает ошибочный взгляд на диалектику развития советской литературы.
Обратим внимание, что советский период ограничен автором двумя десятилетиями. Но еще были сороковые, пятидесятые, шестидесятые, худо-бедно семидесятые годы, продолжившие традиции великой русской литературы. Конечно, влача два десятилетия цепи рабства цивилизованного Запада, Зиновьев мог чем-то развлечься и не заметить литературы 40-70-х годов.
Утверждение, что по сравнению с 20-30-ми годами "сейчас так писать не могут", справедливо только отчасти. Бесспорно, можно и следует громко говорить о симптоматичном явлении: ныне, судя по печатной продукции, отстраненной по своей сути от острых, действительно "больных" вопросов времени, дает о себе знать шаткость взглядов на происходящие события, а часто трусость и отчужденность, свидетельствующие о том, что в плотно закрытые кабинеты писателей не проникают настоящие земные волнения, боль и тревоги... Между тем, увидев свет, книга живет своей собственной жизнью, но она, эта ее жизнь, берет истоки в глубинах сердца и сознания своего создателя - добрым или, напротив, недобрым было его намерение, любовь либо холодное равнодушие двигали его пером. Отсюда - подмена героев четкой жизненной программы бледными фигурами, обуреваемыми непомерными амбициями или узостью кругозора. В конечном счете слабая ориентация в происходящем, растерянность перед сложной действительностью порождают в литературе половинчатые, аморфные образы. А с другой стороны, продолжается процесс погружения тружеников пера в моральные сумерки. Сексуальное умопомешательство, разного рода мистические видения, преклонение перед догматами церкви - разве это не говорит о полной духовной и нравственной опустошенности "инженеров человеческих душ", охотно прислуживающих бесам-демократам?
Надо заметить, что не только в вопросах литературы, но и в оценке русского характера при всей своей большой учености Зиновьев не обнаружил оригинальности. Все перечисленные им качества оного характера не изобретены им, а только несколько смягчены по сравнению с солженицынскими, ананьевскими и прочими речениями об этом предмете. Правду сказать, в некотором роде странная черта присуща многим возвращенцам: каются, испытывают чувство вины за содеянное против России, но тут же норовят, так сказать, несколько как бы отмежеваться от русских же.