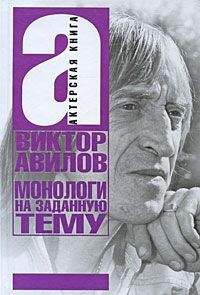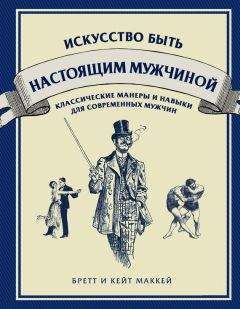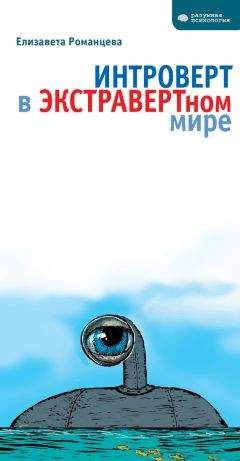Вениамин Фильштинский - Открытая педагогика
Хотелось бы пристальнее вглядеться в такое важное понятие, как «мысли», и уточнить, что оно значило для Станиславского. Процитируем один из поздних архивных документов — черновик «Инсценировки программы Оперно-драматической студии»[8]. Объясняя логику работы со студентами над «Вишневым садом», Станиславский пишет: «С ними пройден первый акт по линии высказываемых в этом акте мыслей, равно как и по линии внутренних видений…».
Обратим внимание на определение, употребленное по отношению к «мыслям» — «высказываемые». Итак, речь идет о высказываемых мыслях, т. е., о тех, которые транслируются текстом роли, иначе говоря (по Галендееву) о том, что составляет «логическое понимание и воплощение текста». Но есть ведь еще другие мысли — невысказанные. Они могут быть смутные, недоформулированные, отрывочные, но это тоже мысли. Они могут быть лишь оттенками мыслей, высказываемых в тексте, они могут быть скрытыми («думает одно — говорит другое») и т. д. Но все это тоже мысли. И они вместе, в частности, с видениями, тоже питают текст. И присутствие этих мыслей в живом процессе человеческого (сценического) существования — реальность. Это вопрос серьезный, и тут нам на помощь подоспевает важнейшая «придирка», а, серьезно говоря, важнейшее соображение В. Н. Галендеева. Оно, собственно, и касается этих самых невысказанных или, скажем так, внутренних мыслей, о которых мы размышляем. В. Н. Галендеев вслед за В. И. Немировичем-Данченко называет их внутренней речью. Он справедливо ставит вопрос: «…Отчего же нигде, в особенности, говоря о слиянии линии мысли и линии видения, Станиславский не упоминает такой важнейший компонент действия, как внутренняя речь?..» И далее: «Есть ли более надежный способ пробраться к сокровенным глубинам текста и, вызвав образы внутреннего зрения, установить личное отношение к ним?»
Эту «промашку» В.Н. объясняет деликатностью Константина Сергеевича, полагая, что Станиславский не хотел вмешиваться в круг творческих проблем, которые разрабатывал В. И. Немирович-Данченко. Так ли это было, не беремся судить. Во всяком случае, ученый напомнил о недостающем звене в теоретическом наследии Станиславского (который на практике достаточно «активно, — как пишет Галендеев, — использовал творческий прием внутренней речи»).
С В. Н. Галендеевым нельзя не согласиться. Жаль, конечно, замены термина «мысли» на «внутреннюю речь». «Мысли» нам кажутся житейски более понятным словом. А вот ходу мыслей, отраженному в тексте, оставить бы «логическое понимание текста». Но дело, в конце концов, не в терминах. Главное, чтобы внутренние мысли (внутренняя речь) заняли в нашей методике свое законное место в глубинах живого сценического существования рядом с «видениями».
Вот остановились бы мы на «внутренних мыслях», тогда, возможно, не понадобились бы «внутренняя речь» и «внутренний монолог» Немировича-Данченко, а также и «внутренний текст», «внутреннее слово» и т. д. В общем, хорошо бы оставить, нам кажется, что-то одно.
Теперь некоторые соображения о таком важном термине, как «подтекст».
В.Н. пишет о том, что понятие «подтекст» у К. С. Станиславского так и не стало достаточно внятным. В подтверждение своей мысли, В.Н. собрал много очень разных суждений Станиславского о подтексте. По Станиславскому, подтекст — это и «кинолента видений», и «жизнь человеческого духа». Подтекст имеет и свою «линию», в нем заключены «многочисленные, разнообразные внутренние линии роли и пьесы», «объекты внимания» и т. д. Наконец, подтекст — это «сквозное действие самого творящего артиста». (В последнем случае, заметим, Станиславский почему-то из сферы жизни персонажа перемещается в актерско-авторскую интеллектуальную сферу в духе Брехта, которая является особой, специальной зоной сценического существования артиста…). Свой вклад в собрание трактовок подтекста вносит и В. Н. Галендеев: «Подтекст… — способ и осознание связей между пьесой и жизнью, историческим, философским, психологическим и практическим ее понятием с одной стороны, и личностью артиста — с другой». Непросто… (Во всяком случае, тут и В. Н., размышляя, как нам кажется, в духе Брехта, говорит о подтексте артиста-автора, а мы все-таки ведем речь о подтексте персонажа…).
Как же разобраться во всем этом обилии толкований? А что, если пойти от самого слова «подтекст»? Уж коли такое понятие возникло, то, может быть, оно и означает все, что лежит под текстом, питает его, окрашивает и в итоге определяет образность текста, его ритм и т. п. Думается, прав Немирович-Данченко, предположивший, что подтекст — это широкое понятие, состоящее из разных элементов[9]. Из каких же? Все они уже известны: это «видения», «внутренние мысли» и «физическое состояние» или «физическое самочувствие» (обнаруженное Немировичем). Это немало, этот набор выдержит толкование любой широты. Разумеется, если каждую из составляющих понимать глубоко и объемно.
Скажем, «видения» (или «киноленту видений») — важнейшая составляющая подтекста. Станиславский придает ей большое значение. Правда, иногда трактует ее слишком узко. Например, «кинолента — иллюстрация обстоятельств». Кинолента не иллюстрация, а хранилище всех обстоятельств жизни персонажа. У Гамлета, например, кинолента хранит не только облик отца, все картины его счастливого детства, жизни с отцом и матерью, но и всех виттенбергских учителей Гамлета, все его радости и страхи, религиозные представления и т. д., и т. д. Так что артист должен заготавливать для своей роли не жалкие пятьдесят-шестьдесят кинокадриков, а десятки хорошо разработанных киносюжетов, тысячи метров «отснятой кинопленки». Разумеется, что артист может вклеивать в киноленту необходимые ему важнейшие и интимнейшие кадры своей личной биографии. И очень важно соображение Станиславского (об этом напоминает В. Н. Галендеев), что речь идет не только о зрительных (визуальных) накоплениях артиста, но и о запахах, звуках, о тактильных, вестибулярных, сексуальных и прочих ощущениях. Это еще пятнадцать процентов из суммарного объема нашего общения с миром. (Как известно, восемьдесят пять процентов информации мы получаем при помощи зрения.) Так что, «кинолента» Станиславского — это фантастически богатая запись всего-всего: не только трехмерных, объемных (голографических) движущихся ярких картин, но и другого — запахов сена и моря, ощущений первого поцелуя, горной высоты или подводной темноты, материнского или сыновнего чувства и т. п. — весь необходимый эмоционально-чувственный опыт персонажа, связанный впрямую, косвенно или даже по дальним ассоциациям с обстоятельствами роли и пьесы. Конечно, этот опыт отобран, переработан, трансформирован…
В «подтекст» входят, с нашей точки зрения, и внутренние мысли. (Они же «внутренний текст», они же «внутренняя речь», они же «внутренний монолог», они же «внутреннее слово».) Тут тоже целый диапазон составляющих: и то, о чем думает персонаж, когда говорит его партнер по эпизоду (у А. Д. Попова — «зоны молчания»)[10], и то, о чем он думает в паузах собственной речи, и так называемые «титры» к киноленте, и то, что приходит персонажу в голову вдруг, то есть совсем неожиданно. Тут и самоободряющие и самоунижающие слова, и философичные обобщения, и ненормативная лексика…
Возьмем, наконец, «физическое состояние». Конечно, и это богатейшая составляющая подтекста, которая в итоге влияет на характер текста. Смертельная болезнь Сарры («Иванов» Чехова) или тяжелый дневной сон Войницкого, после которого он появляется на сцене («Дядя Ваня»), или ветхозаветный возраст Фирса («Вишневый сад»)… — разве они не влияют на характер звучания текста?
Итак, эти три составляющие: «видения», «внутренние мысли», «физическое состояние» (повторим, в их широком и глубинном понимании) — вполне обнимают собой весь «подтекст», все уровни невидимого нами сознания и все шевеления в глубоком подсознании (насколько мы последние можем фиксировать) и даже весь слой актерско-авторского (брехтовского) сознания актера. Сюда вполне вмещается и «второй план», и «груз роли» (по В. И. Немировичу-Данченко) и пр.
А. И. Кацман любил ставить перед студентами простой вопрос: «Что мы видим на сцене?». Он, правда, ставил его в связи с анализом событийности просмотренной сцены. Однако сам по себе вопрос очень хорош, и мы им воспользуемся в своих целях. Что видит и слышит зритель? Иначе говоря, в чем состоит надводная часть айсберга. Она состоит из двух компонентов: зритель слушает текст и видит физическую деятельность (физическое поведение) персонажа. Эти два компонента «равноуважаемы». Поэтому неслучайно возникает порой желание возразить против утверждения: «Слово — венец творчества актера». А почему выразительное физическое бытие актера — не «венец»?