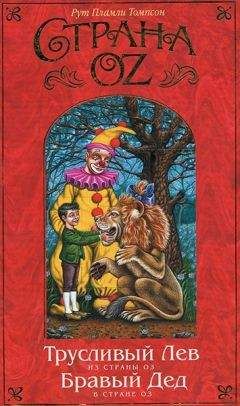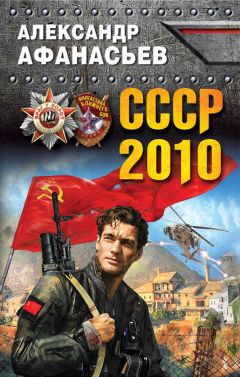Александр Афанасьев - Поэтические воззрения славян на природу (Том 1)
______________
* Die Gotteiwelt, 89.
** Сахаров., II, 23-26; Рус. в св. поел., IV, 29; Послов. Даля, 979-980; Рус. прост, праздн., IV, 196; Терещ., VI, 28-32; Срп. рjечник, 151; Каравелов., 211-2.
*** Пам. стар. рус. литер., 1,129.
**** Lud Ukrain, 1,125.
***** Библ. для Чт. 1848, IX, ст. Гуляева, 55-56. Четьи-Минеи упоминают о чуде, совершенном св. Юрием: по просьбе одного пахаря он оживил убившегося быка. В житии Феодора Акастасиупольского сказано, что он, будучи отроком, ходил по ночам из деревни в город, а св. Георгий оберегал его от волков и других зверей, в которых вселились злые духи.
Предания о мифических, облачных волках, сопутствующих бога-громовника во время его грозного шествия по небу, заставили признать св. Юрия вождем и владыкою волков: он собирает их вокруг себя и каждому определяет, где и чем кормиться. Между поселянами существует поверье, что волк ни одной твари не задавит без божьего соизволения, что на Юрьев день Егорий Храбрый разъезжает по лесам на белом коне и раздает волкам наказы*; по пословице: "что у волка в зубах, то Егорий дал"; "ловит волк роковую овечку", "обреченная скотинка уж не животинка!"**. В народной сказке о Георгии Храб(363)ром*** волк обращается к этому святому с просьбами о пище; то же указание встречается и в других сказках****, только вместо Георгия Храброго - волк прибегает со своими просьбами к Спасителю. Любопытен следующий рассказ: захотелось пастуху водицы испить, и пошел он через лес к колодцу. Шел-шел и увидел большой ветвистый дуб, а под ним вся трава примята и выбита. "Дай посмотрю, что тут делается!" - подумал пастух и взлез на самую верхушку дерева. Глядь - едет св. Георгий, а вслед за ним бежит большая стая волков. Остановился Георгий у самого дуба; начал рассылать волков в разные стороны и всякому наказывает, как и чем ему пропитаться. Всех разослал, собирается уж в путь ехать; на ту пору тащится хромой волк и спрашивает: "а мне-то что ж?" - А тебе, - говорит Егорий, - вон на дубу сидит! Волк день ждал, и два ждал, чтобы пастух слез с дерева, так и не дождался; отошел подальше и схоронился за куст. Пастух осмотрелся, спустился с дерева - и бежать! а волк выскочил из-за куста, схватил его и тут же съел. Подобный рассказ есть у хорутан*****, в котором, вместо св. Юрия, выведен волчий пастырь (vucji. pastir). Этот пастырь представляется старым дедом; но как распорядитель небесных гроз, он принимает на себя образ волка, т. е. облекается в волчью шкуру (= черную тучу) и делается оборотнем = вовкулаком; в таком зверином образе бродит он со стадом волков и отдает им приказы: где добывать себе пищу. В Малороссии волка называют - Юрова собака, а про св. Юрия говорят, что он звиря пасе (т. е. волков)******, животное, задушенное волком, не употребляется в пищу - на том основании, что оно было присуждено этому хищному зверю самим Богом. Кого назначит св. Юрий на съедение волку, тот ни за что не избежит злой доли: один из таких обреченных спрятался на печь, но волк перекинулся котом и, когда все заснули - прокрался в избу и разорвал несчастного. Рассказывают еще про одного охотника, которому суждено было св. Юрием погибнуть от волка; охотник решился истреблять волков, много перебил их и снятые кожи прятал на чердак, но в роковой день одна из кож превратилась в живого волка и пожрала его, как было определено свыше. По другому поверью, уцелевшему в Малороссии, у волков есть свой пастырь Полисун, или Лисовик (леший = козлоногий Пан): словно овечье стадо, гонит он голодных волков на прокорм туда, где враждующие народы губят друг друга в ожесточенной войне, и погоняет их пугою (плетью); удары его плети далеко раздаются по окрестным странам. Война - метафора грозы, плеть - молнии (см. выше стр. 144). Полисун часто показывается вместе с св. Юрием: было два брата - богатый и бедный. Раз "злиз бидный брат на дуба ночуваты, колы так о пивночи бачыт: якыйсь чоловик гоныть сылу звиря, а позаду другый чоловик jиде на вози. То булы Лисун и св. Юрий. От прыгнав Лисун звиря, да як раз пид того дуба, де сидив чоловик; а св. Юрий почав раздиляты окрайци хлиба, що булы на вози". Раздал всем волкам по краюхе, одна только осталась - и ту отдал он бедному: "се тоби, каже, Господь дав счастя! з'цёго окрайчика ты вже певне, що разживешся". И, в самом деле, бедный разжился: "окрайця того нияк не можна зъjисты; що ни поjидять, а назавтра вин и стане таким, як був; усе приростае!" Позавидовал (364) богатый счастью бедного брата, пошел к дубу и взобрался на верхушку, да на ту пору недостало у св. Юрия одного хлеба, и он назначил обделенному волку съесть завидущего богача. Пастухи, которые знаются с лешим, по народному поверью, вовсе не пасут скотины, а пасет ее услужливый лесовик. Под Юрьевы праздники, и весною, и осенью, в Курской и других губерниях крестьяне ничего не работают из шерсти, опасаясь, чтобы волки не поели за то овец*******; а в Литве с этою же целию постятся в день 23-го апреля********.
______________
* Послов. Даля, 981.
** Сахаров., II, 23; Архив ист.-юрид. свед., II, ст. Бусл., 96.
*** Повести, сказки и рассказы казака Луганского, II, 459.
**** Н. Р. Ск., VIII, стр. 273-4; Н. Р. Лег., стр. 7,107-8, 201.
***** Сб. Валявца, 93-94.
****** Номис., 10.
******* Послов. Даля, 981; Черты литов. нар., 94. Сравни следующие поверья: замечают, в какой день придется Сретенье (2-го февраля), и в тот день в продолжение целого года, не снуют основ, чтобы не встретиться с волками (Цебриков, 270); болгары, во время зимнего сол поворота, не работают мужского платья, потому что кто выйдет в таком платье в поле, того съедят волки (Каравел., 279).
******** Гануш, 138.
Стихийные боги, издревле представляемые существами человекоподобными, не чуждались и звериных образов; облекаясь в облачные покровы (= шкуры), они или совершенно превращались в животных, или усваивали себе какие-нибудь отдельные их признаки. В мифологии индийцев, греков и других народов- в представлениях богов замечается смешение человеческих форм с формами быка, коровы, барана и козла*, и такие смешанные изображения удерживались даже в самую цветущую пору греческой пластики. Славянский Ради-гость изображался с головою буйвола на груди**, а ведьмам (вещим облачным женам) и на Руси, и в Германии придаются коровьи хвосты***. Но если, с одной стороны, древний человек в явлениях природы усматривал различных животных и своим небесным богам придавал звериные типы, то с другой стороны-от этих мифических образов он брал чудесные, божественные свойства и наделял ими обыкновенных, земных зверей. Утрачивая живую связь с древнейшими выражениями языка, он мало-помалу забывал о небе и свое религиозное чувство обращал на мир окружавших его животных. Исконное, коренное значение слова терялось; мысль о могучем стихийном явлении, для которого оно служило метафорою, делалась недоступною сознанию, и затем оставалась странная, лишенная смысла мифическая форма. Настоящее божество исчезало; в старинных сказаниях о нем, в молитвенных к нему обращениях народ не узнавал более небесного властителя; понимая каждое слово, каждое выражение буквально, он вместо бога обретал простого быка, барана или козла и, твердо убежденный в святости прародительского предания,- нёс им свои мольбы и жертвы. Поклонение этим животным особенно сильно было распространено на Востоке****; Я. Гримм указал на следы его у германцев*****. У славян сохранились только некоторые отрывочные указания, намекающие на этот древний культ. В (365) Орловской губ. купленную корову вводят на двор чрез разостланную в воротах шубу, хозяйка кланяется ей в ноги и подает на заслонке посыпанный солью хлеб, чтобы корова не скучала по прежнему жилью и не бегала с нового двора. В Калужской губ. в двенадцатый день после того, как отелится корова, ее омаливают. Это делается так: хозяйка варит молочную кашу, горшок с приготовленной кашею ставит в чашку овса, а чашку эту - в решето, наполненное сеном; помолившись Богу, она вынимает крестообразно четыре частицы каши и каждую часть кладет в соответственную сторону сена; потом смешивает сено с овсом и корм этот отдает корове, чтобы она была здорова и обильна молоком; оставшаяся каша съедается в семье. В некоторых деревнях корове, которая принесла первенца, обвязывают около рогов белую тесемочку******. На Троицын день белорусские поселяне, празднуя приход весны, сплетают коровам на рога зеленые венки******* - обычай, известный и в Германии. О торжественном поезде с быком, в честь плодотворящего Тура, упомянуто выше. Баранов и козлов (особенно последних) держат у нас на конюшнях, с целию предохранить лошадей от проказ домового; кто соблюдает это, у того домовой не станет трогать лошадей (на которых любит он кататься по ночам), а будет разъезжать на козле или баране********. Поверье - весьма знаменательное; ибо домовой, представитель очага, по первоначальному значению, есть бог Агни, тождественный Перуну-громовержцу, и, следовательно, ему так же прилично ездить на козлах, как и скандинавскому Тору. В Швабии и Бранденбурге крестьяне держат в хлевах козла, чтобы домашний скот не был испорчен нечистыми духами; так как бог-громовник выезжает на небо разить темных демонов, то эти последние ощущают невольный трепет перед козлом, на котором появляется Тор во время грозы*********. Для того, чтобы домовой не гонял кур, их нарочно окуривают козьей шерстью**********. Козел, по мнению нашего простонародья, задабривает гневного домового, и потому для усмирения его зарывают перед жильем череп козла***********. У лонгобардов, по свидетельству римского Патерика (кн. III, гл. 28), был обычай приносить в жертву дьяволу голову козла; жертвоприношение это сопровождалось пением обрядовых песен и пляскою (скаканием) вокруг требища************. Народная сага, приписывая черту хранение сокровищ, рассказывает, что нечистый только тому дозволяет овладеть ими, кто принесет ему черного козленка*************. Самое создание козла немецкое предание присваивает дьяволу**************; на Руси есть подобное же поверье: когда Бог создал человека, то дьяволу стало завидно, и он намесил глины и слепил из нее точь-в-точь свое подобие - с бородой, хвостом и рогами; но сколько ни дул - не мог вдохнуть в него жизни. Тогда дунул Господь - и тотчас же вскочил козел, бросился на черта и начал бить его рогами; испуганный черт обратился в бегст(366)во. С той поры он ничего так не боится, как козла***************. По другим же рассказам, черти, подобно громовнику, сами разъезжают верхом на козлах****************, что объясняется их древнейшею связью с темными тучами. Заметим при этом, что в эпоху христианскую "дьявол" сделался общим нарицательным названием для всех облачных и грозовых духов, которых языческая древность изображала козлоногими и рогатыми сатирами, фавнами, лешими*****************. Средневековые иконописцы воспользовались уже готовыми образами и рисовали лукавого духа с рогами, хвостом и козлиными ногами; подобные изображения чертей и леших встречаются и на лубочных картинах. Домовой, по русскому поверью, - малорослый старик, весь покрытый теплою, косматою шерстью******************. На Украине на первой неделе великого поста водят по улице козла и поют веселые песни*******************; тот же обряд совершался прежде на Коляду, теперь же в дни Рождественских Святок водят ряженых, из которых один представляет козу, а другой пастуха. В Швеции водят на Рождество наряженного козлом юношу - julbock, а в Германии носят, вместо того, klapperbock (шест, обтянутый козьей шкурою) - символ той громовой трещотки, которую бог Гермес подарил Геркулесу********************.

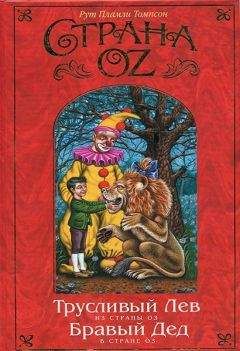
![Роберт Хайнлайн - Чужак в чужой стране [= Чужой в чужой земле, Пришелец в земле чужой, Чужак в стране чужой, Чужак в чужом краю, Чужой в стране чужих]](/uploads/posts/books/116183/116183.jpg)