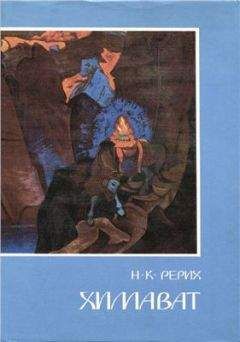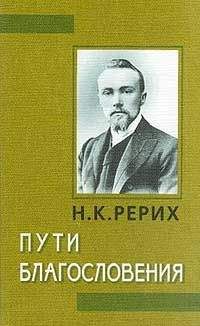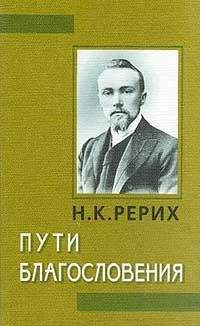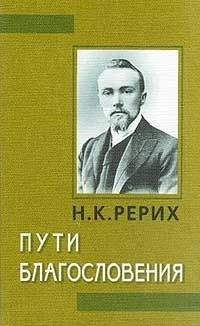Владимир Порудоминский - Ярошенко
Оставим в стороне разительные неточности — «бандуристов», «Полтавщину» (хотя в названии — «под Киевом»); «сравнение» с Брейгелем тоже, как видим, ограничивается чисто внешним сопоставлением: «бредут, как у Брейгеля». Но тотчас за приведенными строками у Нестерова следует: «Позднее стали являться одна за другой более зрелые вещи Николая Александровича». И перечисляются: «Заключенный», «Кочегар»…
Тут-то и загвоздка: Нестеров, оказывается, считал «Слепых» ранним произведением Ярошенко, еще не отмеченным печатью зрелости! Для Ледакова и иных критиков ярошенковские «Слепцы» потому и хороши, что написаны после «Кочегара» и «Заключенного», для Нестерова же потому лишь, что (как ему казалось) — до.
Рядом с «Кочегаром», с «Заключенным» картина не проигрывает в сочувствии, но ей не хватает силы протеста. Такое сопоставление лишний раз выявляет силу «Кочегара», «Заключенного» — «так называемых идейных картин» (по определению того же Нестерова).
Не следует, однако, выносить «Слепых» за скобки ярошенковского творчества. «Слепые калеки под Киевом» не выбивались из общего русла передвижничества. Картина «милая», но это не академические румяные «нищие дети» или «итальянские нищие» — это все тот же (передвижнический!) российский обездоленный народ. Картина исполнена «гражданской скорби», столь характерной для творчества Ярошенко как выразителя общественных настроений эпохи (редкая статья о художнике обходилась без одобрения или порицания «гражданской скорби» его картин). Впервые важную роль в его картине играет пейзаж — до Ярошенко-пейзажиста рукой подать. И даже то «милое», что примирило со «Слепыми» обычных недоброжелателей Ярошенко, вдруг даст о себе знать в некоторых позднейших работах художника (лишний раз подтверждая, что сентиментальность не противостоит твердой, волевой натуре, а подчас странно сопрягается с нею).
Что до «группировки», то Ярошенко, пожалуй, сладил с ней: все фигуры достаточно умело размещены на плоскости холста. И все же…
Если мысленно убрать с холста ту или иную группу, особой потери для общего не чувствуется. Группировка не из тех, когда утрата одной фигуры зияет невосполнимой брешью. Все фигуры несут, в конечном счете, одну смысловую нагрузку. Если бы на холсте остались, допустим, слепой старик и женщина с ребенком, о картине можно было бы сказать немногим меньше, чем видя всех семерых. Более того: рассматривая этюды к картине — слепцы изображены на них по одному, по два, — зритель получает примерно то же впечатление, что и от всей композиции. Это — не репинские «Бурлаки», которых Ярошенко, работая над «Слепыми», явственно держал в памяти. У Репина та же цепочка, но каждый из «Бурлаков» своеобычен и неповторим, каждый — необходимейшая нота в созвучии. У Ярошенко в каждой фигуре тоже есть что-то свое, и все-таки вместе его слепые больше семижды один звук, нежели созвучие.
«Старое и молодое». Сцена
Но Ярошенко не оставил попыток сладить с «группировкой».
Очередная картина называлась «Старое и молодое».
В отличие от сюжета «Слепых.» сюжет новой картины составляло столкновение, что легко вычитывалось уже в названии.
В хорошо обставленной комнате, у камина, расположилось благородное семейство. В благородном семействе неспокойно. Юноша-студент страстно проповедует что-то удобно сидящему перед ним в мягком кресле старику отцу. Отец не разделяет горячности сына и сдержанным движением руки пытается остановить его речь. За спиной отца — девушка, восторженно внемлющая словам брата. Поодаль, за столом, старушка мать, не примыкая к спорящим, тихо раскладывает свой пасьянс. Камин озаряет сцену красноватым светом.
«Сценка для того времени как нельзя более характерная!» — вспоминал картину публицист Неведомский, современник художника.
Время движется не только за стенами домов, оно все вершит по-своему и в благополучных комнатах с мягкой мебелью, коврами на полу и картинами на стенах.
Ярошенко в живописи открывал то, над чем плодотворно работала русская литература, изучавшая семью как ячейку общества, в которой отражаются все общественные процессы.
Но любопытны различия в толковании картины. Одни современники предполагали, что юноша-семидесятник спорит с идейным человеком сороковых годов; другие увидели в споре столкновение романтика и скептика; третьи — беседу доброго малого с позабывшим про разумное, доброе, вечное, привыкшим к теплому халату папашей.
Вряд ли, однако, Ярошенко стал бы затевать картину, чтобы сказать в ней такую малость. Он, конечно, вкладывал в союз «и», соединяющий обе части названия, гораздо большую силу противопоставления, нежели та, что увидели в картине зрители.
Между тем нашлись и такие, что вовсе не пожелали увидеть противопоставления: один насмешливый критик толковал союз «и» в названии как знак равенства: «кудлатый юнец со воздетой дланью», с «блуждающим, немного бестолковым взглядом» и старик «с носовым платком, приготовленным для слез умиления, вызванных открытием необычайного ума в сыне», — молодое и старое друг Друга стоят.
Сюжет, построенный на столкновении, на первый взгляд легок для воплощения — он как бы сам за себя говорит, но работа над ним таит величайшие трудности: точность каждого образа должна сочетаться с высочайшей точностью «сцеплений» — отношения между образами должны быть переданы с совершенной выразительностью и законченностью.
В «Старом и молодом» Ярошенко не достиг необходимой точности: замысел, открывавший серьезные возможности, не поднялся над уровнем «характерной сценки».
Юноша, призванный воплощать «молодое», оказался слаб и неубедителен. Он мог оставаться неподвижным или сделать едва уловимое движение, но непобедимая сила нового должна была наполнять каждую его клеточку, гнать по его жилам горячую кровь. Юноша у Ярошенко весь снаружи, в словах, он слишком много говорит (как это ни странно в применении к «немой» живописи). В противоположность «Заключенному» и «Кочегару», из которых зритель, всматриваясь, не перестает черпать новое, юноша «Старого и молодого» опустошен собственными речами. Все, что должно в нем быть, как бы сорвалось с его «воздетой длани» — жест также неточный, не соответствующий обстоятельствам (по ироническому замечанию одного из критиков, он будто не с отцом спорит, а распевает «Марсельезу»). Отец получился крупнее, характер более цельный. Сохранился эскиз, на нем жест отца энергичней; отказавшись от энергичного жеста, Ярошенко мог бы убедиться, что сосредоточенность прибавляет выразительности. Отец прерывает сына непринужденным движением руки — и, грешно говорить, кажется, что прав. Неубедительностью юноши снижается и образ девушки, его сестры, не сводящей с него восхищенного взора. Это скорее восторженность любящей сестрицы, чем общая радость побеждающих единомышленников. Старушка за столом, с веселым (при данных обстоятельствах) спокойствием раскладывающая пасьянс, по остроумному замечанию одного из первых рецензентов, как бы подсказывает зрителю, что ей каждый вечер доводится слушать эти жаркие разглагольствования. Красноватый свет камина, который должен бы напоминать огненную печь «Кочегара», не тревожит, а даже как бы успокаивает: уют.
Критик «Московских ведомостей», ярый противник «тенденциозности», объяснял, что Ярошенко поставил перед собой недостижимую цель: нельзя «представить антитезу средствами живописи» — показать на холсте борьбу идей, победу идеи, утвердить истину.
Но Ге в «Петре и Алексее», сюжетно близком «Старому и молодому» (с той, однако, осложняющей задачу художника разницей, что Петр, отец, был исторически молодое, а царевич, сын, — старое), уже доказал достижимость цели. Той же цели скоро достигнет Репин в «Не ждали», особенно в «Отказе от исповеди».
«Отъезд гувернантки»
Увидев на Пятой передвижной раннюю картину Ярошенко «Сумерки», критик Адриан Прахов отметил, что ей вредит «излишнее сходство с манерою г. Крамского».
Не зная картины, до нас не дошедшей, трудно установить, в чем заключалось это «излишнее сходство». Предполагать еще труднее: если исключить портреты, которые здесь ни при чем, Крамской был известен в ту пору «Русалками» и «Христом в пустыне», «Сумерки» же картина о землекопах-поденщиках в Петербурге — с темами и образами Крамского ничего общего. Сопоставление сюжетов (сохранились к тому же эскизные наброски Ярошенко) не позволяет предполагать композиционного сходства. Тем не менее Прахов прозорливо угадал общность метода («манеры») обоих художников. Год спустя «Кочегар» и «Заключенный» вполне подтвердили эту общность.
«По свойству натуры язык иероглифа для меня доступнее всего», — признавался Крамской. Он объяснял, что, в отличие от художников, воспроизводящих жизненные явления как таковые, склонен с помощью символа, «иероглифа», передавать впечатления от явлений жизни, свои «симпатии и антипатии».