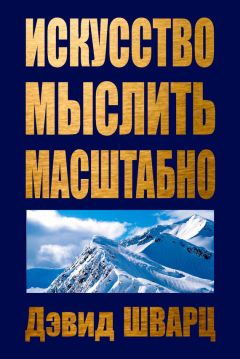Ив Бонфуа - Невероятное (избранные эссе)
Нет, это сам человек, каким он грезился Пьеро, — вместе и материя, и логос. Обладающий неподвижной свободой. Полной, но неподвижной, — как свобода дерева, этого прообраза колонны, дерева, которое умирает, ничего не зная о смерти. Широко раскрытые глаза видят то, чего не дано видеть закрытым глазам. В гуманизме Кватроченто есть момент почти полного торжества, когда точный расчет мог восприниматься как своего рода гнозис. Но верно ли, что от смерти — от уже открытой человечеством смерти — здесь действительно удалось избавиться? Рана на боку воскресающего не исчезла. И вскоре после этой фрески в творчестве Пьеро происходит перелом. В леруджийском «Благовещении», где картина прорвана далью, в светотени Мадонны из Синигалии вновь появляются время и страх. А в большой миланской «Пале» время уже предстает победителем. При первом же взгляде на эту картину чувствуешь, какая от нее исходит тоска. Перед нами то самое «обретенное время» Пруста, которое на последних страницах его книги становится уже чистым разложением, смертью. Подобно тому как греческое искусство кончило полным унынием, в этой самой сознательной, самой торжественной картине героизм раннего Ренессанса окончательно теряет уверенность в себе и сходит на нет.
Дело в том, что сам век уже изменил свое течение. Вскоре Козимо Тура, для которого максимализм Пьеро явно был предметом серьезных размышлений, пишет в Ферраре своего ужасного «Святого Иакова», свидетельствующего о бесплодии всякой аскезы, о капитуляции жизни перед лицом смерти. Самый решительный, самый последовательный оптимизм, какой, быть может, знала история, сменяется самым жестоким страхом, у нас есть представление{40} о божественности человека, и перед ним отступают все наши бедствия, мы убеждены в бедственной участи человека, и перед эти убеждением меркнет все сияние его славы, — вот прямо противоположные тезисы Пьеро делла Франческа и Козимо Тура, догматизм и пирронизм этих возвышенных умов. Впрочем, различие между этими принципиальными реалистами не так существенно. Оба они, независимо от того, к чему стремятся — к трагическому знанию или к мудрости, которая даруется правильной конструкцией, — остаются в мире имманентности, необходимости, где художник должен исходить из того, что в этом мире имеется. И видеть смерть, как Козимо, и растворять ее во всеобщем, как это некогда делал Пьеро, — это, возможно, одно и то же, во всяком случае по отношению к тому из наших дел, которое мы вправе называть поэзией. Но Боттичелли, «плотинист», христианин Боттичелли, отвергает эту имманентность. Он пишет «Покинутую»{41}, где жестокий задний план говорит о горестной участи души, затерянной в пространстве. Он погружается в больное время, словно в загадку, которую нужно решить. Он верит какому-то обещанию, он ищет какого-то благодатного исхода.
Поль Валери[4]{42}
В Поле Валери была явная сила, но она не нашла верного применения. Наделенный волей и настойчивостью, располагавшими к самой взыскательной словесной работе, он нисколько не нуждался во французской поэзии — вовсе не рационалистичной, вопреки мнению Валери, но тревожной, вглядывающейся в темноту и по существу, в глубине своей, имеющей слишком мало общего с родными краями его мысли — этим кристально-четким берегом, неверным горизонтом очевидности. Ясность может быть миражем. Поэзия, во всяком случае, чувствует себя разочарованной и обманутой, когда оказывается в подобной местности (будь она реальной или воображаемой), в этом духовном Средиземноморье… В мире, где ощущения столь облегчены, столь элементарны, столь беспримесны, что ведут, кажется, прямо к сути вещей, к какому-то неизменному морю, солнцу, ветру. Где свет придает яркость любому предмету и сам всегда остается ярким. Где взгляд хочет заменить собой познание и навязывает свой способ познания нашему духу; где маслина, растущая среди камней или над ручьем, представляется, конечно же, не чем иным, как прообразом всех маслин. Попадая в этот мир, мы готовы верить, что стремительно возвращаемся в обиталище Идей, что касаемся сверхчувственных сущностей, которые лишь слегка ослаблены, распылены некоей материей. Именно такой иллюзией живет, скажем, итальянский язык, и его легко обозримые, замкнувшиеся в себе слова никогда не подвергают эту иллюзию сомнению или осуждению. Но есть и другой путь. Есть нечто необычайное — живое существо, со всей его бесформенностью и темнотой, существо рожденное, уносимое временем и обреченное умереть. Существо, находящееся здесь, вот в этом месте. Эта вот маслина, ну да, та же самая маслина, но во всем ее отличии, в ее существовании hic et nunc, в той ее жизни, которая оборвется под топором или в огне пожара. Валери прошел мимо тайны живого присутствия. Он восстанавливает против себя, невольно заставляя сочувствовать Аристотелю. Ведь мечтание, внушаемое миром Идей, подвергает поэта величайшей опасности: его слова перестают возмущать, выходить из принятых рамок. Положим, я говорю «цветок», говорю «море», «маслина», «ветер». И все эти слова, схватывающие, как кажется, только сущность вещи, ее монотонность, ее вечную неизменность, легче легкого откликаются тому, что Валери считает реальным, — вообще морю, вообще маслине, вообще ветру. Это ли не блаженство, даруемое языком, — но каким же отречением приходится за него платить! Это ли не умиротворенность — повторение, подражание, описание, — но умиротворенность бездеятельная, бездушная, нечто прямо противоположное тому, чего желал, к примеру, Малларме! Он тоже приравнивал слово к Идее, цветок — к тому, чего «не найти ни в одном реальном букете»{43}, но он знал, что Идей не существует, пока еще не существует, — и добивался, чтобы «книга» своей связующей и зиждущей силой построила царство, в котором они обретут бытие. Восхитительный и, несмотря ни на что, в высшей степени поэтический замысел, потому что его цель — спасение! Когда же в своем стремлении к бытию Малларме натолкнулся на то, что противоречит миру Идей, — на вещество, место, время, — он громко возвестил об этом: обо всем, что он называл единым словом «случай». Так в нашей поэзии затрещали рамки, о которых я только что сказал, так обнаружился зазор между словом и вот этой реальной вещью. Интеллектуальное познание предмета пришло в столкновение с иной формой его постижения, которую мы, не боясь ошибиться, можем назвать любовью.
Всегда, от Платона до Плотина и эпохи раннего христианства, философия Идей искала исцеления в этой живой воде.
И своеобразие современной французской поэзии — поэзии, которой положил начало Бодлер, — состоит, я думаю, как раз в том, что она обнаружила в поэтическом слове это тайное влечение. Поэзия-любовь должна исходить из того, что вещи действительно существуют.
Она должна посвящать себя тому Здесь и тому Теперь, которые Гегель надменно отверг, возвеличивая язык{44}, должна стремиться, чтобы слова, и в самом деле готовые отдалиться от бытия, стали решительным и парадоксальным возвращением к нему. О чем еще заботятся стихи, как не о даровании имени тому, что обречено погибнуть? Хартия возрожденной поэзии — сонет «Прохожей». Предмет, к которому поэты вернулись после долгих блужданий, — размышление о смерти.
IIНо Валери не понимал, что смерть уже открыта.
То, что он написал о Паскале и о Бодлере, исполнено крайнего упрямства. Его тешит мир сущностей, где ничто не рождается и не умирает, где вещи пребывают вне власти случая, пусть даже и лишенные подлинного бытия, — всего-навсего картинки, легкий красочный слой, покрывающий непроглядную тьму. Мир, где, нечего спорить, сладко спится, — если, конечно, пресловутый сон при свете солнца, источник блаженства, описанного во многих стихотворениях Валери, сон, процеживающий ощущения и отделяющий для себя лишь некоторый их экстракт, сочетание чувственного и всеобщего{45}, действительно позволяет наслаждаться чем-то архетипическим, как то делают животные и растения, как того желало греческое искусство, эта мысль, погруженная в дремоту. Предаваясь такому сну, человек отворяет себя теням — и сам становится тенью. И Валери полюбил этот бестелесный мир грез, не колышущих поверхности сущего, полюбил его за то, что все наши действия утрачивают в этом мире свою реальность. «Все уже таково, каким будет», — повторял он, начиная с юношеских лет, и эта мысль его пленяла. Симметрия мироздания (в понимании греков), его плотность (в понимании Эдгара По) обращают нашу свободу в ничто, а наши поступки и все, что они могли бы значить, делают призрачными. Именно поэтому Нарцисса поражают{46} пыл и красота, которые ничем не наполнены. Он склоняется над ручьями, но не видит их вещественности, не восхищается загадочным бытием воды; все, что он там находит, — это свое отражение в лавровом венке и совсем другую, более бедную загадку — свое существование вне судьбы.