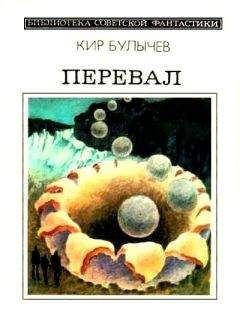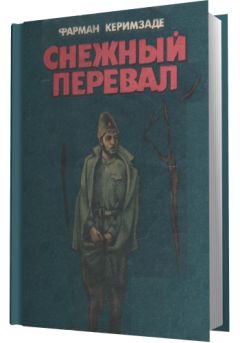Галина Белая - Дон Кихоты 20-х годов - Перевал и судьба его идей
Однако потенции опыта были далеко не однозначны. В предреволюционной действительности вызревали не только импульсы созидания и творчества, но и импульсы разрушения и анархии. Симптоматично, что статья Н. Чужака "Под знаком жизнестроения" была не только "опытом осознания искусства и дня": ее большая часть, которую в 1923 году обильно цитировал автор, была написана в 1912 году. Хотя предреволюционная работа была названа "К эстетике марксизма", она, по существу, была не только вульгаризацией марксизма, но и несла на себе отчетливую печать позитивизма с характерным для него неприятием классического наследия, отождествлением бытия и мышления, гипертрофией опыта и факта в познании, пафосом утилитарности, отрицанием теории отражения142. [55]
После революции лефовские теории отчетливо тяготели к постулатам Пролеткульта. В их основе лежало отрицание искусства как особой формы познания действительности, отрицание объективной истины в произведениях искусства, крен в сторону субъективизма. "Искусство, - писал в 1924 году Н. Горлов, - это - я и всегда только я, то есть субъективное организующее начало, эмоциональное воздействие художника на массу, как бы оно ни притворялось объективным"143. Помноженное на классово-утилитарное понимание целей и задач искусства, это убеждение и рождало радикализм лефовцев: "...основной задачей Лефа, - считали они, - является - углубить до предельной возможности классовую траншею на театре военных действий искусства. Не уставать повторять, что каждая буква и штрих, каждый жест и тема в процессе потребления выполняют либо революционную работу, либо контрреволюционную; реорганизуют психику работников к максимальной производительности, изобретательности, целевой устойчивости, или же расслабляют ее, создавая эстетические перерывы в практике..."144 К концу 20-х годов эта идея переросла в открытое отрицание искусства. "Искусству нет места в современной жизни, - писали в 1928 году лефовцы. - Оно еще существует, поскольку есть романтическое маньячество и живы люди красивой лжи и обмана. Вести борьбу против искусства как опиума должен каждый современный человек"145.
В литературную жизнь 20-х лефовские теоретики вошли с жесткими социологическими идеями, ориентацией на выращивание типа "стандартизированного активиста", отрицанием роли творческой личности в художественном процессе, апологией "факта", долженствующего заменить игру фантазии и воображения. Их воинственность вызывает в памяти слова Ш. Бодлера о западных авангардистах, перенесших в свой словарь термины военного искусства. "Этот навык - полагаться на военные метафоры, - писал он, - свидетельствует не об оригинальности ума, а о склонности к дисциплине, то есть к приспособлению, и характерен для провинциалов, ро[56]дившихся в неволе и способных мыслить только в коллективе".
Что же касается развития "левого" искусства в рамках Лефа, то все выглядело таким образом.
Закономерная для искусства первых пореволюционных лет абсолютизированная установка на "массу" в следующий исторический период стала отрываться от реальных, породивших ее причин и пришла в противоречие с природой самого искусства. "Дело было не в том, - уточняет А. Юфит во вступительной статье к книге "Советский театр. Документы и материалы", - что они ("левые" художники. - Г. Б.) пренебрегали деталями, нюансами характеристик. Наивно отстаивать какую-то совершенно определенную, каноническую степень индивидуализации. Но здесь был принципиальный уход от изображения личности. Безликая и бессловесная масса/громоздкие аллегорические построения объявлялись альфой и омегой нового театрального искусства". И, подобно тому, как быстро изжил себя отвлеченный космизм в поэзии, "агрессивный отказ от воплощения каких бы то ни было индивидуализированных образов взрывал, перечеркивал театр с его специфическими средствами отражения действительности и воздействия на нее"146.
К середине 20-х годов стало ясно, что наиболее полно соответствовало лефовской эстетике агитационное искусство, где художник разговаривал с массами на языке политики. Оно было той эстетической формой, в которую естественно укладывались субъективная революционность и народолюбие "художников-новаторов".
Радикальный отказ от изображения жизни в формах самой жизни, гипертрофия условности, обнаженность приема - все это привело не только к тому, что в "давящий каркас гипертрофированного приема торопливо и бескомпромиссно загонялась живая человеческая природа актера"147, не только к провалу памятников, выполненных лефовскими художниками в осуществление плана "монументальной пропаганды", но и к драматическому разрыву с той аудиторией, на которую "левые" художники ориентировались. Рабочие не приняли их ис[57]кусства - футуристические памятники были ими освистаны, несмотря на то, что "художники-новаторы" собирали митинги на фабриках с надеждой, что рабочие признают футуризм своим искусством. Произошло то, о чем Луначарский говорил применительно к театральному искусству: уже в 1920 году он писал, что "не только видел, как скучал пролетариат на постановках некоторых "революционных" пьес, но даже читал заявления матросов и рабочих о том, что они просят о прекращении этих "революционных" спектаклей и о замене их спектаклями Гоголя и Островского"148. "Какое время переживаем мы? Время ли, когда "народ безмолвствует"?.. Я думаю, что пролетариат отнюдь не безмолвствует, а уже достаточно настойчиво выражает свою волю во всех областях жизни, в том числе и в области культурной"149.
О том, что происходило, можно судить по судьбе театральных идей Вс. Мейерхольда, зародившихся в первые годы революции ("Театральный Октябрь", как их называл сам Мейерхольд).
В феврале 1921 г. Мейерхольд был смещен с поста заведующего Театральным отделом Наркомпроса, вскоре он ушел из этого отдела вообще. В сентябре 1921 года прекратились спектакли его Театра РСФСР 1-го. В августе 1921 года закрылась газета "Вестник театра" - "рупор идей "Театрального Октября"150.
К. Л. Рудницкий в своей книге о Мейерхольде деятельно восстанавливает и другое: несовпадение деклараций "Театрального Октября" и художественных результатов театральной деятельности великого режиссера. В динамике "Зорь" Верхарна, поставленных Мейерхольдом, в "балаганном весельи" "Мистерии-Буфф" В. Маяковского ощущалось "возникновение сценических форм, реально созвучных революции"151. И все-таки в политизированном театре Мейерхольда "новые принципы сценического искусства были скорее заявлены, чем достигнуты"152. "Что же касается лозунгов и деклараций "Театрального Октября", то они быстро утрачивали свою популярность. Круг его приверженцев день ото дня сужи[58]вался. Они высказывались все так же горячо и категорично, но слушали их рассеянно, холодно, без увлечения. Их претензии представлять собою революцию в искусстве революция не подтвердила.
К концу гражданской войны художники, которых именовали "правыми", определили свои позиции. Пора их колебаний и сомнений осталась позади. Традиционные, "академические" театры обнаружили готовность служить освобожденному народу.
"Левые" лишились монополии выступать от имени революции"153.
В 1923 году А. В. Луначарским была написана запальчивая статья "Об Александре Николаевиче Островском и по поводу его" с лозунговым призывом "Назад к Островскому!". Обращение к творческому опыту великого драматурга Луначарский объяснял прежде всего тем, что современный театр, "бесконечно богатый новыми исканиями", страдал тем не менее "определенной пустотой, отсутствием большого революционного театра". Исходные предпосылки его создания, по мнению Луначарского, заключались в независимости театра от "мятущегося и неустойчивого футуризма". Созидательные тенденции должны были быть реализованы "прежде всего в направлении содержания, в направлении современного быта и рядом с этим, конечно, отражения глубоко родственных эпох прошлого или попыток создать образы будущего". Этот новый революционный театр должен был, по мысли Луначарского, бросить все свои усилия на поиски "яркой, горячей, зажигательной проповеди новых истин, а со стороны формы необыкновенной простоты и убедительности, которые, конечно, ни на минуту не отрицают подъема". "Великое поучение", доставшееся пролетариату от Островского, Луначарский видел в том, что Островский был "крупнейшим мастером нашего бытового и этического театра", в котором глубоко нуждался пролетариат.
Для самого Луначарского идея театра "бытового и этического" не только не означала недоверия к реализму, но предполагала насыщенность реалистического обобщения. "Классический театральный реализм, - писал Луначарский, - работает в рамках чистой театральности, он вовсе не стремится к иллюзионизму, он не обрисо[59]вывает испытанных приемов сценической выразительности, он держится за ясность дикции, четкость жеста, известную плакатность задуманного типа и каждой сцены: он суммирует, подчеркивает, отбрасывает все мелкое, он помнит, что на него смотрят в бинокль тысячи людей издали, он полагает, что только синтез интересен в театре, он боится нюансов и деталей"154.