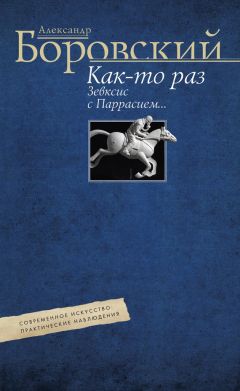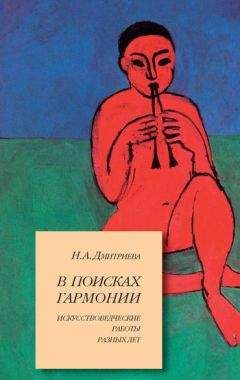Нина Дмитриева - В поисках гармонии. Искусствоведческие работы разных лет
Великие произведения живут долго, потому что на долгую жизнь запрограммировано их эстетическое строение. Эстетически совершенная форма родственна структурам и ритмам природы, ее коренным формообразующим принципам, действующим и в большом, и в малом – от строения атома до строения Солнечной системы, от циркуляции соков в растениях до циркуляции крови в человеческом организме. Чехов в цитированном выше письме говорил: «Кто владеет научным методом, тот чует душой, что у музыкальной пьесы и у дерева есть нечто общее, что та и другое создаются по одинаково правильным простым законам». Но, добавлял он, «порядок этого сочетания скрыт от нас»21. Скрыт он и от художников, интуитивно постигающих потаенные законы эстетической формы. Их чувствовал Данте, выковывая цепь непрерывно льющихся терцин, угадывая «музыку сфер». Их чувствовал Андрей Рублев в плавных дуговых ритмах «Троицы». Прекрасная художественная форма обладает в себе законченной гармонической структурой, представляя аналог той тенденции, которая присуща самоутверждающейся жизни и противодействует тенденции к распаду, к возвращению в лоно хаоса. Такая форма работает на жизнь независимо от того, изображает ли ее светлые или темные стороны; она внушает безграничное доверие и является залогом того, что запечатленные в ней антитезы и противоречия действительно входят в состав жизни. Само произведение обладает бытийственной убедительностью, выглядит безусловно сущим или, по выражению Тургенева, «несомненным».
В хвалах, воздаваемых художественным шедеврам, неизменно звучал мотив: «Это сама жизнь!» или «Это более правдиво, чем сама жизнь!». Так говорили об античных мраморах, о картинах Рафаэля, о Данте и Шекспире, о Веласкесе и Рембрандте, о Толстом и Достоевском.
Один из исследователей Данте писал о нем: «Он не поет песни ужасов о далеком грядущем Аде, не возносит хвалебного гимна Раю, но в великую пятницу 1300 года, когда ему самому было ровно 35 лет, он очутился у врат, ведущих к умершим, и в течение всей Страстной недели странствовал по царствам мертвых, и что он там видел и переиспытал, он сам передает нам с неподражаемой пластикой и в необычайном возбуждении. Мы можем проверить каждый его шаг и события каждого часа, с его слов были составлены отчетливые планы адских и райских областей; каждое место описывается при помощи самых точных сравнений; вся поэма поражает прямо устрашающей реальностью»22.
Устрашающая реальность. Мощь подлинности. Данте не был ни в Аду ни в Раю, но описано воистину пережитое странствие. Критически анализировать текст, доискиваться до источников – это все уже потом, но первая эстетическая реакция, если она состоялась, совпадает с наивным возгласом веронской женщины: «Он был там!»
Не простодушная горожанка XIV столетия, но утонченный поэт Нового времени Теофиль Готье, подойдя к «Менинам» Веласкеса, воскликнул: «А где же картина?» Суриков, покидая Рим, прощался с веласкесовским портретом Иннокентия X, как с живым человеком. Скажут: ведь это Веласкес – для него законом было «следовать во всем натуре». А как с теми великими мастерами, кто не признавал этого закона? Например, Пикассо?
Как ни странно, подобное же чувство («А где же картина?») овладевает зрителем перед «Герникой». Мистерия гибели, развернутая на грандиозном полотне, производит впечатление доподлинной яви: слышим рыдающее ржанье лошади и вопль матери с мертвым младенцем на руках, ощущаем страшную тесноту подполья, где мечутся и погибают живые существа, видим мелькание зловещих вспышек света… Нет, это не придуманное, это настоящее. Эффект реальности «Герники» со временем еще усиливается – ее смотрят современники атомных катастроф (когда художник писал «Гернику», о них никто не мог догадываться) и видят в ней материализованный образ зла, разлитого в сгустившейся атмосфере XX столетия – зла анонимного, где вина раскладывается на всех. И тут уже ощущению подлинности происходящего не мешают, а интенсифицируют его искаженные квазичеловеческие фигуры с вывернутыми конечностями, безлобыми лицами, разбросанными глазами: может ли быть «нормальным» шоковое видение в момент глобальной катастрофы? Такова «устрашающая реальность» великого произведения Пикассо.
При этом его форма чеканна и, как ни малоуместным кажется здесь это слово, гармонична. Сильно вытянутая в длину, картина построена наподобие триптиха. В центральной части ясно выделен классический треугольник, основание которого – вся нижняя часть картины, а вершина – светильник. Как в классических барельефах, формы, расположенные по обе стороны от центра, между собою рифмуются. Смятение гибели взрывает классическую архитектонику, она не заявляет о себе прямо, но подспудно действует, возводя «Гернику» в сферу монументального, вечного. В «Гернике» слышится не просто вопль отчаяния, но трубный глас трагической музы. И вот исчезает стена, окружающее отходит, «рукотворность» картины перестает замечаться: остается, как нечто само по себе сущее и пребывающее, наяву увиденный Апокалипсис.
Феномен «исчезновения картины» (в литературе – исчезновения строчек, в театре – исчезновения сценических подмостков) – знак высочайшего качества искусства. Юрий Олеша, читатель тонкий и чуткий, рассказывал, как однажды ему попался в руки какой-то роман Шеллера-Михайлова. «Бойко написано, но ни следа очарования, магии. Свадьбы, векселя, интриги, вдовьи слезы, прожигающие жизнь сынки… И вдруг, перейдя к одной из очередных страниц, я почувствовал, как строчки тают перед моими глазами, как исчезает страница, исчезает комната, и я вижу только то, что изображает автор. Я почти сам сижу на скамейке, под дождем и падающими листьями, как сидит тот, о ком говорит автор, и сам вижу, как идет ко мне грустная-грустная женщина, как видит ее тот, сидящий у автора на скамейке… Книжка Шеллера-Михайлова была по ошибке сброшюрована с несколькими страницами того же “нивско-го” издания сочинений Достоевского. Страницы были из “Идиота”. <…> Колоссальна разница между рядовым и великим писателем!»23
Хотя Шеллер-Михайлов, вероятно, не хуже Достоевского знал среду, которую описывал; хотя речь идет не о концепциях и идеях романа Достоевского, а всего о нескольких случайных страницах – «таяние строчек» уже определяет разницу между рядовым и великим.
Силой неотразимой достоверности обладают произведения Чехова. Как бы ни относиться к герою «Скучной истории», как бы ни оценивать его жизнь, поступки, взгляды – одно несомненно: этот человек, писателем вымышленный, подлинно существует, стоит перед нами как живой, мы его видим, слышим и ни с кем не спутаем. Как бы ни судить о Душечке – умиляться, смеяться или возмущаться ею, – она именно такая, как описана в рассказе; кажется, что мы ее встречали, были знакомы с ней. И то же удивительное чувство «узнавания» испытываешь, читая у Чехова, как в холодное весеннее утро узкой багровой полосой занимается заря, как стучат по мостовой копыта верховых лошадей, как пахнет белой акацией и сиренью, как играет музыка в городском саду. Все с такой же отчетливостью сна наяву, как Ярцев (в повести «Три года») видит набег половцев, леса, розовые от пожара, и старика с обожженным лицом, привязывающего к седлу молодую пленницу. Чехов не только «был там» – он «был ими», ими всеми. Даже собакой Каштанкой, даже голодной волчихой, за которой увязался белолобый щенок.
Глубок по философскому смыслу, исполнен аффективных противоречий, великолепно оркестрован роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита» – и все же: он не имел бы такой покоряющей магнетической силы, не брал читателя в плен так властно, если бы не создавал иллюзию подлинного бытия невероятных событий и лиц, в нем описанных. Читатель действительно воочию видит, как на Патриарших прудах подсаживается к Ивану Бездомному и Берлиозу странный незнакомец и ведет с ними странную беседу; а потом сразу, почти без перехода, видит, как «в белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой» идет прокуратор древней Иудеи Понтий Пилат. Галлюцинирующая яркость картин захватывает с первых же страниц, не отпускает до последней страницы: мы не просто читаем – мы присутствуем. Иначе бы не поверили. А не поверив, не стали бы вникать, «расшифровывать», интерпретировать.
Кто интересуется психологией творчества, пытается постичь логику творческого процесса (что редко удается), те знают, что самих художников, по их собственным признаниям, посещают «сны наяву». Образ предстает перед ними в какой-то момент в своей целостности, зримо и слышимо, опережая сочинение, то есть разработку. Это «магический кристалл» Пушкина, это знаменитая «волшебная коробочка» Булгакова. Не говоря уже о Данте, который в «Новой жизни» упоминает о «дивном видении» – источнике «Божественной комедии».
Блок не мог объяснить, почему Христос идет впереди отряда красногвардейцев: по его словам, он увидел его в столбах метели. «Когда я кончил, я сам удивился: почему Христос? Но чем больше я вглядывался, тем яснее я видел Христа»24. Чехов косвенно приоткрыл тайну своих внутренних созерцаний, описав «сны». Суриков рассказывал, как ему явился образ стрелецких казней при виде Красной площади – сразу целиком, включая композицию и цвет. Ворона, сидящая на снегу с отставленным в сторону крылом, вызвала в его воображении «Боярыню Морозову».