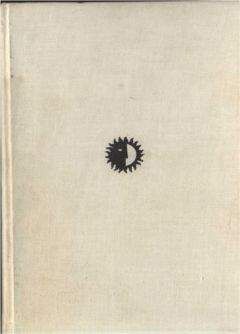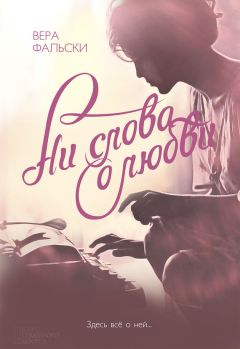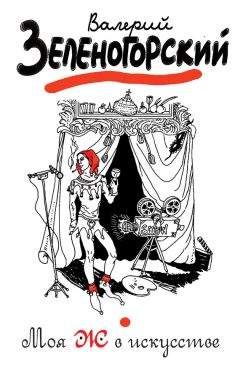Вера Домитеева - Врубель
В Москве Врубелю стало еще хуже. Его великое произведение не сотрясло мир и не распахнуло перед картиной двери императорских музеев. «Демона» за три тысячи рублей, надолго обеспечив семью художника, купил Владимир фон Мекк. На устроенное фон Мекком чествование автора холста собрался цвет московских живописцев. Быстро разнеслась весть, что Врубель вел себя безумно и безобразно. Молодому художнику Сергею Судейкину рассказывали, что Врубель неистово восхвалял свой шедевр, свою гениальность, затем принялся дерзко критиковать всех по очереди; «не совсем еще погибшему» Серову рекомендовал подучиться, копируя «Демона», а Нестерова так бранил, что тот расплакался. По другим рассказам, со словами «он прав, я полная бездарность» плакал в передней Серов. Кого именно Врубель довел до слез (и были ли вообще на том торжестве слезы), это уже не имело особого значения для набиравшей обороты легенды о безумном гении.
Кто наверняка плакал горько и ежедневно, так это несчастная жена художника. Муж не разлюбил ее и маленького сына, вроде бы по-прежнему обожал их обоих, но сам он на глазах превратился в чудовище. Чуть что устраивал скандалы, убегал из дома, пропадал невесть где, транжирил деньги, дико пьянствовал. «В древности, вероятно, его бы называли испорченным, и он именно испортился — все его недостатки удесятерились… — писала Забела Римскому-Корсакову. — Прежде многое ему охотно прощалось благодаря его мягкости, доброте, деликатности, теперь он… Вообще это что-то неимоверно странное, ужасное, в нем как будто парализована какая-то сторона его душевной жизни».
Видимо, с Врубелем и впрямь происходило нечто подобное. Душа после расставания с «Поверженным» опустела. Исповедь в трех частях, трех «Демонах» была написана, всё было сказано, всё выплеснуто. Оставалось страдать и философским разумом залечивать растерзанные чувства, да беда в том, что чувства выли звериным воем, а разум отказал.
Зимой во время наездов в Петербург были случаи, когда чем-либо разъяренный Врубель срывался. Однажды он с кулаками накинулся на извозчика, который, противореча консервативным настроениям художника, сочувственно высказался о разогнанных полицией студентах. В другой раз в театре ударил схватившего его за рукав капельдинера, и дело даже дошло до суда. Но эти вспышки хотя бы имели повод. Весной гневливость Врубеля в мотивах уже не нуждалась и могла полыхнуть когда угодно. Надежда Ивановна просто боялась мужа, мечтала как-нибудь мирно разъехаться с ним, решила увезти ребенка, укрыться под родительским кровом в Рязани и только опасалась, что муж последует за ней и сыном. Так и вышло. Врубель тоже сел в поезд, был уже безумен, беспрерывно рвался выходить из вагона, нес откровенный бред, в доме у тестя не выдержал двух дней, метался, поехал обратно. Забела дала в Москву телеграмму. На вокзале ее мужа встретил врач, санитары отвезли Врубеля в лечебницу.
Тем временем «Демон поверженный» круто развернул отношение к его автору. Газеты, правда, не успели перестроиться: по инерции клеймили декадента. Однако еще во время выставки в «Новостях» прозвучал дифирамб, подписанный художником Михаилом Судковским. Свидетельствуя о реакции обывателей на картину («многие над ней глумятся, хохочут, а некоторые настолько не сдерживают своего темперамента, что даже плюют»), рецензент с теми, кто «в состоянии воспринять ее впечатления»: «Демон Врубеля — это гордый дух… радужно-крылатый гений человечества, поверженный серостью обыденной жизни; но поверженный на горах, униженный, — он остается могуч и верен своим чудным до ослепления мечтам… Да, в картине этой, действительно, есть то, что должно быть во всяком произведении истинного искусства… нечто особое, возвышающее нас от повседневных меркантильных интересов… и я от души поздравляю Врубеля».
«Демон поверженный» разволновал Александра Бенуа. Нарочитое врубелевское стремление «вечно возноситься в якобы высшие сферы» оказалось правдой переживаний живописца. Можно было, восхищаясь созданной «с гениальной легкостью симфонией траурных лиловых, звучно-синих и мрачно-красных тонов», огорчаться из-за несколько театральной патетики героя холста, но искренность образа была вне сомнений.
Вдогонку своей уже сверстанной «Истории русской живописи в XIX веке» эмоциональный Бенуа пишет постскриптум:
«На четвертой выставке „Мира искусства“ появилась поразительная картина Врубеля „Демон“, вообще одно из самых замечательных произведений последней четверти века… по своей фантастичности, по своей зловещей и волшебной гамме красок эта картина несомненно одно из самых поэтичных, истинно поэтичных произведений в русской живописи».
А с Врубелем, помещенным в частную лечебницу Ф. А. Савей-Могилевича, кошмар. Буйство, полное помрачение рассудка, днем и ночью дежурящие возле агрессивного больного надзиратели. В относительно спокойные минуты пациент способен что-то довольно связно говорить, и он много рисует. Но художника нет, воплощавшие его душу демоны забыты, на десятках листов бумаги примитивная порнография мальчика с воспаленным воображением. Лакомая тема для шустрых журналистов. В июне газета «Русский листок» публикует мерзкую статейку под названием «Душевнобольные декаденты». На примере «небезызвестного московского художника Врубеля» и его больничных рисунков репортер рассуждает о несомненной принадлежности декадентов к спятившей клиентуре психиатрических клиник и заодно сообщает, что Врубель, по мнению врачей, неизлечим. Друзья художника возмущены, родные подавлены. И хотя Остроухов добивается печатного опровержения статьи, а руководитель лечебницы уверяет, что окончательно диагноз не поставлен (у больного очевиден лишь комплекс маниакальных идей с преимуществом мании величия), всем близким Врубеля не по себе. Хочется как-то действовать.
Члены распорядительного комитета по устройству выставок журнала «Мир искусства» Дягилев, Серов и Бенуа планируют на следующей экспозиции доказать душевное здоровье творчества Врубеля широким показом его произведений. Совет Третьяковской галереи пытается договориться о приобретении «Пана» у Якова Жуковского, который запрашивает за картину пять тысяч, мотивируя цифру намерением четыре тысячи передать Забеле-Врубель на лечение мужа. Сестра художника обдумывает возможность перевода Врубеля в заграничную клинику. «Вспомнив, что профессор Мечников знал брата в Одессе еще гимназистом и с симпатией относился к нему», Анна Александровна пишет в Париж, просит Мечникова о содействии и получает незамедлительный положительный ответ, но затем возникает мысль о лечебнице в Германии. Владимир фон Мекк готов организовать путешествие и сопровождать Михаила Александровича в любую страну мира. Серов спрашивает совета у крупного парижского психиатра Соломона Львова, мужа Маши Симонович. Львов, обещая сделать всё возможное, если пациента решат привезти из России, все-таки предостерегает от рискованных перемен обстановки в период острого заболевания. Московские специалисты тоже против переезда, так что Врубель пока остается на прежнем месте.
Август принес некоторые перемены к лучшему (больной «перестал буянить… стал чистоплотен, вежлив с окружающими»). И рисовать Врубель перестал. В сентябре его поместили в психиатрическую клинику при Московском университете, под наблюдение профессора Сербского.
«Перевезли, — рассказывает Екатерина Ге, — в одном пальто и шляпе, даже без белья», поскольку «он все уничтожил, все свои вещи до нитки». У Сербского Врубель успокоился, сознание значительно прояснилось, он теперь понимал, где он и почему. Клиникой был доволен: она значительно дешевле предыдущей, а «еда и сервировка здесь обильная и вкусная». Свидания с ним до ноября были запрещены, но он начал почти здраво писать жене. Грустно, страшновато и стыдновато читать эти очень личные письма «милой, бесценной Надюшечке». «Фиалка моя, роза моя Ширазская… я раб твой, все, что подумаешь только, сделаю. Только одним не мучь меня: разлукой…» И вдруг ребяческое лепетание: «Но, ради неба, не пропусти этого четверга; будущий четверг мои именины: подари мне хороший новомодный галстук — plastron…» Скачущие обрывки мыслей с упоминанием загробного Элизиума греков и Атиллы вместо Ахилла, а в конце ясная щемящая мольба: «И отчего же не писать чаще? Ты представить себе не можешь, как письма твои мне дороги. Только не такие, а больше искренности, тепла. А то это все напоминает сообщения, пожелания добрых, почтенных знакомых. Мои письма перечитывай: редко какая душа так с откровением развязывалась».
Последние слова возвращают к размышлениям о предельной авторской откровенности в «Демоне поверженном». Видно, не создан был художник, замкнуто и одиноко живший своим волшебным миром, для столь непосредственных излияний. Дорого ему это обошлось.