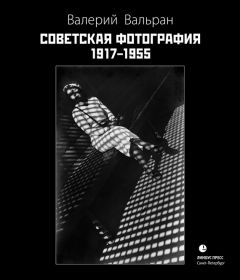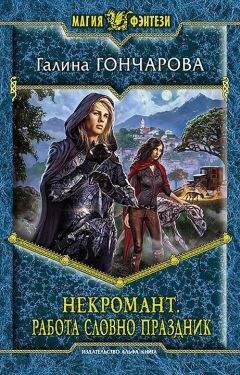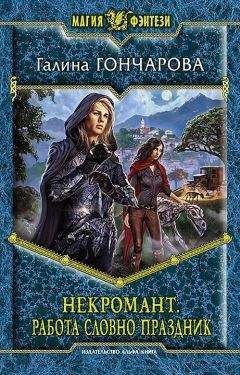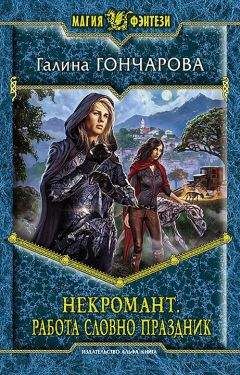Александра Амшинская - Тропинин
Время создания Тропининым конного портрета Платова совпадает со значительнейшим для русской живописи явлением — расцветом творчества Кипренского. Прикомандированный к Мартосу, выдающийся портретист с февраля 1809 года жил в Москве. И именно здесь в том же 1809 году писал свои едва ли не лучшие портреты: Е. В. Давыдова, Е. П. Ростопчиной и, вероятно, мальчика А. А. Челищева. Общение с Кипренским прежде всего мог иметь в виду Рамазанов, говоря, что в Москве Тропинин «имел встречи».
Тропинин хорошо знал Кипренского по Академии, он вез с собой на Украину листы с его натурщиками как эталон академического рисования. Как-то встретились они, недавние соученики — баловень московского высшего света, известный художник, уже в полной мере проявивший свой талант, и крепостной лакей, недоучившийся живописец?
Мы не знаем обстоятельств свидания этих двух людей, столь разных по характеру, темпераменту и судьбе. Однако можем проследить в их творчестве очень близкие аналогии.
В следующий период в эскизах Тропинина мы не раз встретим реминисценции знаменитого портрета Давыдова. Правда, они будут относиться лишь к внешней стороне изображения — поза, жест, постановка фигуры. Существо же тропининских портретов совершенно иное. Вместо напряжения сдерживаемых молодых сил, готовых прорваться и героическим свершением и гусарской проказой, свойственного портрету Давыдова, в эскизах Тропинина герои представлены после одержанной победы, они покойно-мечтательны.
По аналогии с двумя другими портретами Кипренского хочется датировать 1809 годом такие малоизвестные произведения Тропинина, как живописный портрет Анны Ивановны, относимый ранее к 1830-м годам, и портрет мальчика из Житомирского областного художественного музея.
Портрет Анны Ивановны удивительно схож с наброском на обороте ее же миниатюрного изображения, условно отнесенного нами к 1807 году. По сравнению с миниатюрой портрет, как и первоначальный набросок, представляется умышленно будничным, домашним.
Анна Ивановна родилась в 1781 году, но на портрете ей трудно дать и двадцать пять лет. Перед нами юная хозяйка и, может быть, даже мать. Серые глаза ее смотрят на зрителя доверчиво и вместе с тем робко. Темно-русые волосы выбились из-под кружевного чепчика, свободное, скрывающее фигуру платье с мягким отложным воротником не стесняет спокойных естественных движений. Отдельные недочеты в рисунке как бы стушевываются, отступают на задний план перед мастерским владением живописной техникой. Тонкие лессировки на лице и мелкие прописи на освещенных частях кружев и ткани создают впечатление живой материальности и нежной поверхности лица, и паутины кружев, и переливчатого блеска лент. Очарование предметного мира, как отголосок прошлого века, сочетается в портрете с естественной простотой образа нового времени. Портрет мог бы служить иллюстрацией к лицейской шалости влюбленного Пушкина, содержащей просьбу к живописцу написать ему:
«…Красу невинности прелестной,
Надежды милые черты…»[18]
В житомирском портрете мальчика подкупает обаяние самой натуры, мастерски переданной Тропининым: нежное детское личико, как бы прозрачные голубые глаза, тонкие пряди белокурых волос. Светло-синий цвет кафтанчика, белизна воротника и сероватый тон фона поддерживают общее ощущение легкости и светоносности живописи.
С произведениями Кипренского эти два полотна сходны лишь темой да общими принципами эпохи. Создания Кипренского просты лишь по форме. В его полотнах внутренний мир как бы подчиняет себе телесную оболочку модели, которая представляется лишь хрупким вместилищем души.
В портрете Е. П. Ростопчиной гамма красок притушена, лишена натуральной свежести. Тонкий узор тюля и кружев не украшает графиню, но подчеркивает хрупкость ее болезненно-экзальтированной натуры. Огромные темные глаза на бледном лице глядят в пространство взволнованно и напряженно.
Полон динамики и юный А. А. Челищев. Однако весь строй изображения здесь совершенно иной. Красный жилет, синий кафтан и белый воротник рубашки, контрастно оттеняющий смуглое черноглазое лицо, хотя и даны в полную силу тона, не воспринимаются материальными — это живописное борение цвета, отражающее движение внутренних сил.
Тропинину не дано было проникнуть в тот сокровенный внутренний мир, который открывал в людях Кипренский. Вместо этого мы видим на его полотнах красоту мира предметного, зримого и как бы физически ощутимого. Тропинин передавал очарование окружающих человека вещей, материи, окутанной воздухом, пронизанной светом и как бы дышащей заодно с человеком.
Тем не менее встреча с Кипренским в период становления творчества должна была явиться для него значительным событием.
Пример сильного, независимого искусства Кипренского как бы освободил крепостного живописца из плена традиционной живописи и показал путь быть самим собой. Отныне Тропинин-художник приобретает свое собственное лицо, которое легко угадывается даже сквозь откровенные заимствования в рисунке, композиции, сюжете, манере письма. Ибо все эти внешние черты никогда не переходят рамок лишь технических приемов, служащих для выражения открытого художнику живого смысла изображаемой натуры.
В начальный период трудности мастерства не были еще преодолены крепостным живописцем. Если его мягкая послушная кисть виртуозно накладывала краску слой за слоем, передавая бархатистую поверхность детского лица, блеск глаз, пушистые пряди волос, то в рисунке и композиции Тропинин был еще заметно скован. Основная часть его портретов начала XIX века — погрудные. Композиция их традиционна: при трехчетвертном положении фигуры голова почти фронтальна, а направление взгляда обращено в сторону, обратную повороту туловища. И это повторяется от портрета к портрету почти идентично. Фон портретов нейтральный — оливково-зеленый или серебристо-серый. Обрез холста оставляет вокруг фигуры лишь очень небольшое поле сверху и чуть большее спереди. Однако при том акценте, который всегда сосредоточивался на самой модели, на характере и выражении лица, глаз, эти вынужденные приемы не мешают, они не навязчивы, их лишь с удивлением отмечаешь в разных, по существу, портретах.
Долгое время работой Щукина считался портрет пожилой женщины в кружевном чепце. Затем в ней узнали кисть Тропинина, однако отнесли ее к зрелой поре творчества, к 1830-м годам, — так мастерски написана она и так полно характерности добродушное старческое лицо. Увидав же эту работу рядом с описанным прежде портретом Анны Ивановны, также изображенной в кружевном чепце, их невозможно разделить. Оба полотна были созданы не только одновременно, они писались как бы по одному замыслу, в них использованы одни и те же приемы. Достаточно указать хотя бы на форму тени, падающей на лоб от рюшей чепцов. Не портрет ли это матери Василия Андреевича, упоминание о котором в статье Рамазанова стоит рядом с портретом Анны Ивановны как «портреты матери и супруги художника»?
К тому же кругу камерных образов относится и единственный в то время подписной и датированный «Портрет брата художника», известный по фотографии. На нем стоит монограмма «ВТ» и дата — «1809 год».
Лицо этого крепостного интеллигента, с открытым лбом, значительно и добро. К сожалению, нам ничего не известно о его судьбе.
Длительное пребывание в Москве должно было наложить определенный отпечаток и на последующие украинские работы Тропинина. Однако, ввиду отсутствия сколько-нибудь определенно датируемых произведений, проследить это трудно. Рамазанов говорит о «головах украинцев и украинок», которые Тропинин привез с собой в Москву в 1812 году. Можно предполагать, что, живя опять на Украине, художник продолжал работать над образом уже известной нам подолянки, который становится в эти годы более свободным, непосредственным, приближаясь к тому превосходному произведению, которое теперь хранится в Курском областном краеведческом музее и равно очаровывает юным девичьим образом и свежестью тонкого письма. Возможно, что именно к этим годам относится этюд украинского дровосека.
Долго не удавалось точно датировать и два других полотна, связанных с Украиной. Это «Мальчик с топориком», который стоит как бы между сентиментальными головками XVIII века и поэтичными образами наступающего романтизма, и «Мальчик со свирелью», совсем недавно еще принимавшийся за произведение немецкого художника. На первом из них есть полустершаяся надпись: «Морков». Обе картины являются портретами старших сыновей Моркова — Ираклия и Николая. Сравнивая их с семейной группой Морковых, написанной в 1813 году, можно предполагать, что они созданы в самом начале 1810-х годов. Тогда старшему, Ираклию, было около пятнадцати, а второму, Николаю, родившемуся в 1798 году, немногим более десяти лет.