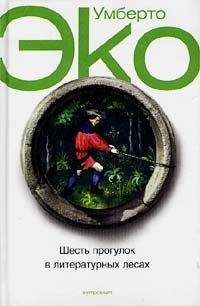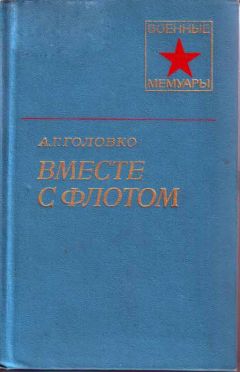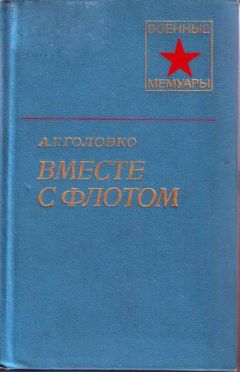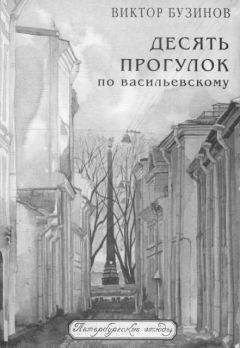Т Чернышева - Природа фантастики
Далее критик замечает, что в разных местностях и у разных людей отношение к этим образам может быть различным, что одни верят больше, другие меньше, "для одних уже превращается в забаву то, что для других служит предметом серьезного любопытства и даже страха"20. Но как бы то ни было, способность фантастического образа завладевать рассудком и воображением, возбуждать "серьезное любопытство" Н. А. Добролюбов связывает с верой в реальность этих персонажей.
Интересно, что и современный исследователь сказки В. П. Аникин даже самую сохранность некоторых сказочных мотивов ставит в прямую зависимость от существования живой веры в судьбу, колдовство, магию и пр., пусть даже эта вера до предела ослаблена. Анализируя мотив выбора невесты в сказке "Лягушка-царевна", где каждый из братьев пускает стрелу, исследователь замечает: "По-видимому, в какой-то ослабленной форме эта вера (в судьбу, которой герои вручают себя. - Т. Ч.) еще сохранялась, что и дало возможность древнему мотиву сохраниться в сказочном повествовании."21.
Итак, фантастический образ сохраняет относительную самостоятельную ценность до тех пор, пока существует хотя бы слабая, "мерцающая" (Э. В. Померанцева) вера в реальность, фантастического персонажа или ситуации. Только в этом случае фантастический образ интересен своим собственным содержанием. Когда же в связи с изменениями в мировоззрении доверие к нему нарушается, фантастический образ как бы утрачивает свое внутреннее содержание, становится формой, сосудом, который можно заполнить чем-то другим.
Раннее художественное сознание, которое не знает еще многозначности художественного образа и сознательной вторичной условности, вполне может не уберечь, не сохранить такие "опустевшие" образы. Так, предполагают фольклористы, были потеряны многие сказочные мотивы, к которым из-за изменения в мировосприятии и условиях жизни люди утратили интерес22. Подобное сознание может создавать прекрасные высокохудожественные произведения, но форм условной образности не знает.
Таким в давние времена было мышление создателей народных сказок, и история превращения человека в медведя, которая, по справедливому замечанию Ю. Манна, в глазах нашего современника сама по себе не. имеет смысла, для наших отдаленных предков не имела и не могла иметь никакого другого смысла и только этим единственным значением и была интересна. Такую же совершенную тождественность пластических образов "изображаемому, идее, которую стремится выразить художник", видит Г. Гейне и в античном искусстве23. Там, "например, странствия Одиссея не означают ничего, кроме странствий человека, бывшего сыном Лаэрта и супругом Пенелопы и звавшегося Одиссеем..."24. Иное дело в искусстве нового времени, в средневековом искусстве, которое Г. Гейне называет романтическим. "Здесь странствия рыцаря имеют еще эотерическое значение; они, быть может, воплощают жизненные скитания вообще; побежденный дракон - это грех; миндальное дерево, издали столь живительно благоухающее навстречу герою, это троица: бог-отец, бог-сын и бог-святой дух, сливающиеся в то же время в единство, подобно тому как скорлупа, волоконце и ядро представляют собой единый миндаль"25.
В становлении этого нового типа художественного сознания немалая роль принадлежит аллегории, на которую впоследствии так ополчились романтики и о которой весьма неодобрительно отзываются и современные исследователи. Кстати, Г. Гейне в приведённом выше отрывке говорит в первую очередь как раз об аллегории. Слов нет, аллегория, закрепляющая за образом единственное значение, весьма ограничена в своих возможностях, и ко времени рождения романтизма эти ее художественные возможности были во многом исчерпаны. Но ведь закрепляла-то она пусть единственное, но не прямое, а переносное значение образа. А к такому видению нужно было еще приучить, через эту ступень нужно было шагнуть, чтоб прийти к романтической многозначности образа.
Такое развитое художественное сознание, которое освоило уже иносказательные формы образности, сохраняет фантастический образ, утративший связь с мировоззренческой базой, но наполняет его новым содержанием, и тогда, по словам Г. Уэллса, "интерес во всех историях подобного типа поддерживается не самой выдумкой, а нефантастическими элементами"26. Такой образ, по выражению С. Лема, несет сигнал, но не воплощает его содержания.
Таким представляется нам путь от прямого познавательного образа к вторичной художественной условности: в фантастическую художественную условность образ или идея превращаются тогда, когда к ним утрачено доверие. Этим как бы завершается процесс пересмотра прежних верований и заблуждений.
Такова судьба почти всех сказочных чудес; в сознании просвещенной части общества сказочная фантастика отделяется от действительности гораздо раньше, чем в сознании народных низов. Как мы видели, еще в конце XIX в. народ "полуверит" событиям, о которых повествует сказка. Для Д. Базиле, Ш. Перро и их последователей (XVII в.) сказка - уже свободная игра воображения, поэтическая безделушка или изящное иносказание.
В литературной сказке прежние сказочные образы и мотивы продолжают жить и даже обрастают новыми деталями, но они претерпевают значительную внутреннюю перестройку: в литературной сказке старые чудеса постепенно утрачивают свой буквальный смысл, они как бы "дематериализуются", становятся символом, иносказанием и т. д.
Интересно, что Э. Тейлор отводил "огромную умственную область", лежащую между верой и неверием, для "символических, аллегорических и пр. толкований мифа"27. Иносказательное прочтение мифологического образа начинается тогда, когда доверие к нему утрачено или, во всяком случае, пошатнулась вера в буквальное соответствие его действительности, т. е. когда образ начинает восприниматься как фантастический. Особенно показательна в этом плане трансформация одного из самых распространенных сказочных мотивов - мотива превращения. В народной сказке превращения материальны и буквальны: человек действительно превращается в мышь, в иголку, в колодец и т. д. с последующим возвращением первоначального облика. А вот в сказках Ш. Перро такие превращения зачастую условны.
Так, в народных сказках нередки сюжеты о женихах, превращенных в животных, которым любовь невесты возвращает человеческий облик. Есть в сказках и другой устойчивый мотив: герой, обычно младший сын, сидит на печи, слюни по щекам размазывает, а потом превращается в красавца добра молодца. В том и в другом случае эти превращения буквальны и материальны.
В сказке Ш. Перро "Рике-с-хохолком" многое напоминает оба эти сказочные мотива, но превращение в конце Рике в красавца оказывается не реальным, а воображаемым, и автор весьма пространно говорит об этом: "И не успела принцесса произнести эти слова, как Рике-с-хохолком предстал перед ней самым красивым в мире молодым человеком, самым стройным и самым приятным. Иные, правда, уверяют, что дело тут вовсе не в чарах фей, но что одна любовь виновата в таком превращении. Говорят, что когда принцесса хорошенько подумала о постоянстве своего возлюбленного, о его скромности и о всех добрых сторонах его души и ума, она после этого уже не видела ни кривизны его тела, ни уродства его "лица"28.
Современные сказочники давно уже не воспринимают сказочные превращения как нечто буквальное. Особенно последователен в этом. отношении Е. Шварц. У него превращения выглядят больше как иносказание, как намек на реальную, а вовсе не сказочную действительность. Так, в пьесе "Тень" (по Андерсену) всплывает сказочный сюжет о царевне-лягушке. Героиня пьесы утверждает, что это была ее двоюродная тетя. "Рассказывают, что царевну-лягушку поцеловал человек, который полюбил ее, несмотря на безобразную наружность. И лягушка от этого превратилась в прекрасную женщину... А на самом деле тетя моя была прекрасная девушка и она вышла замуж за негодяя, который только притворялся, что любит ее. И поцелуи его были холодны и так отвратительны, что прекрасная девушка превратилась в скором времени в холодную и отвратительную лягушку... Говорят, что такие вещи случаются гораздо чаще, чем можно предположить"29.
Как видим, это вовсе не буквальное превращение, иносказательный смысл его в данном случае подчеркнут, намеренно обнажен. Использование же сказочных образов в других литературных жанрах еще дальше уходит от первоначального смысла.
Судьба сказочного мотива превращения может служить своего рода моделью жизни фантастических образов, рождающихся на основе образов познавательных, так как они обладают свойством переживать ту мировоззренческую атмосферу, которая их породила. Так образуется круг образов и мотивов, которые живут и продолжают "работать" в искусстве, когда уже давно кануло в вечность мировоззрение, создавшее их и воспринимавшее их как воплощение самой действительности.