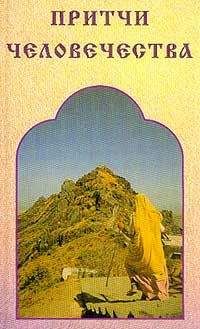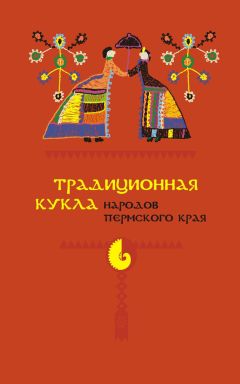Галина Леонтьева - Карл Брюллов
Кто знает, как сложилась бы дальнейшая судьба братьев Брюлловых, если б в один прекрасный ноябрьский день 1821 года в доме князя Ивана Алексеевича Гагарина, что на Мойке, угол Зимней канавки, не собралось бы пятеро инициаторов создания еще небывалого в России сообщества — оно будет названо Общество поощрения художников. Большинство из собравшихся — знатного или изрядного происхождения, люди, видные и по службе: Кикин, полковник в отставке А. Дмитриев-Мамонов (его портрет Карл тоже напишет перед отъездом), флигель-адъютант А. Киль, гравировавший для великого князя Николая костюмы русской армии, и Ф. Шуберт, генерал от инфантерии, видный ученый — геодезист, топограф, астроном. Присутствовала и знаменитая Семенова, она оставила сцену, став женою хозяина дома, Гагарина.
В уставе Общества было записано: «Всеми возможными средствами помогать художникам, оказывающим дарование, и способствовать к распространению всех изящных искусств». Устав был принят с небольшими уточнениями. Общество родилось. По сути, у Академии с возникновением Общества появилась оппозиция, хотя члены его подчас и не осознавали того, не выдвигая никаких особых эстетических идей, руководствуясь общими, расплывчатыми задачами «вообще» поддержания отечественных художников и пропаганды «изящного». Общество стало материальной базой для венециановской школы. Общество заказывало художникам картины, покупало готовые работы, разыгрывая их затем в лотерее. Общество полагало необходимым для художников образование, почему и предпринимало на свой счет издание трудов по истории и теории искусств. Благодаря попечениям Общества смогут осуществлять свои замыслы независимо от Академии Толстой и Варнек, Воробьев и братья Чернецовы. Именно Общество поощрения заказывает Карлу две композиции — «Эдип и Антигона» и «Раскаяние Полиника», словно проверяя его еще раз, и именно оно, устами Кикина, предлагает ему поездку в Италию. Ехать один Карл не хотел. Так сошелся в последнее время с братом, что расставаться было бы горько. К тому же, движимый скромностью, он уверяет Общество, что «из меня, быть может, ничего не выйдет, а из брата Александра непременно выйдет человек». И Общество берет на себя попечение об обоих братьях.
12 апреля 1822 года Брюлловым назначили пенсионерство в Италии сроком на четыре года. Начались сборы в дорогу.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Незаметно подошел день 16 августа 1822 года, на который был назначен отъезд. С легким сердцем простились братья с родными. Невольно торопя время, всей душой устремленные в будущее, они безболезненно расставались с родным домом, городом, — как расстаются в юности со вчерашним днем… Никто еще не знал, что отсутствие их, вместо положенных четырех лет, затянется у Александра почти на восемь, а у Карла на долгих тринадцать лет. Никто не знал, ни уезжавшие, ни провожающие, что Карл никогда больше не увидит ни отца, ни мать, ни меньших братьев: все они отойдут в иной мир, пока он будет в дальних странствиях. Перед тем как Карл уселся в дилижанс, строгий и не склонный к нежностям отец крепко обнял его и поцеловал — первый и единственный раз в жизни.
Дилижанс Петербург — Рига был полон — заняты все шесть мест. Среди пассажиров — представители трех «знатнейших художеств»: живописец Карл, архитектор Александр и немецкий скульптор Эдуард Лауниц. Попутчик попался бывалый и занятный. Братья больше молчали, а он без конца рассказывал о своем житье-бытье в Италии, о том, как он учился у Торвальдсена, и что это за замечательный мастер, и что за город вечный Рим… Братья молча слушали и неотрывно глядели в окошечко кареты — первый раз в жизни выехали они за пределы Санкт-Петербургской губернии, первый раз в жизни видели неоглядные просторы России. Через две недели пути въехали в Ригу. Старый город поразил своеобразной архитектурой и обилием дешевых и роскошных фруктов. Были в гостях у маркиза Паулуччи, военного губернатора Лифляндии и Курляндии. Тот потчевал молодых людей отменным обедом и рассказами о Наполеоне, о кампании 1812 года — в свое время, в 1807 году, маркиз покинул Францию и перешел в русскую службу. Человек образованный, он следил за всеми событиями художественной жизни Петербурга, сам только что вступил в члены Общества поощрения, и видеть первых его пенсионеров ему было весьма приятно.
Мелкие города Пруссии — Мемель, Кенигсберг, родина великого философа Канта, — не произвели впечатления, после Петербурга казались почти что деревнями. По дороге из Мемеля в Кенигсберг художники впервые в жизни увидели море: «Вид необыкновенный! прелестный! величественный!» — в описании братья не жалеют восклицательных знаков. Зрелище действительно захватывающее: беспредельность водного простора, ураганный ветер, пылающий закатный огонь «как бы стращал зажечь сферу». 5 сентября путники направились в Берлин. Публика всюду — на улицах, за табльдотом, в театре — пестрела военными мундирами. Берлин первый после Петербурга показался достойным зваться городом. Они побывали в театре, слушали оперу соперника Глюка Николо Пиччинни «Ифигения в Тавриде», смотрели драму. Опера понравилась, а к драме отнеслись холодно — игра показалась напыщенной и — «Самойлова нет!»
Вот они в Сан-Суси, бродят по библиотеке короля Фридриха, разглядывают часы, остановившиеся в момент его смерти. Долго стоят в комнате Вольтера, рассматривая обшарпанный стол, за которым он писал. История, знакомая по учебникам и романам, оживала перед их глазами… Выставка берлинских художников не произвела на них впечатления — «произведения живописи слишком обыкновенные», интересным показалось лишь огромное полотно Ораса Верне, да и то, может, потому, что изображало вместе с прусскими солдатами своих, русских. Вообще поначалу, и это так понятно, им нравится только привычное. Например, скульптуры Х.-Д. Рауха — оттого что он «умел соединить простоту греческих ваятелей первых времен с точностью и вкусом позднейших». Всюду и неизменно братья больше всего восхищаются классикой — прежде всего антиками и Рафаэлем. «Я открыл секрет, — пишет Карл, — который состоит в том, чтобы более рисовать с антик и Рафаэля, и славному Егорову скажу, что он не был бы то, что он есть, если бы не видел Рафаэля». Все, что выходит за рамки привычных представлений, пугает их и кажется бесконечно далеким от совершенства — будь то итальянский примитив или Корреджо, замечательные произведения Дюрера и Гольбейна или работы современных немецких романтиков. Перед натиском этого нового Карл принимает воинственно оборонительную позицию, пытаясь во что бы то ни стало защитить привычный идеал, и не жалеет при этом весьма резких выражений: «По требованию вашему откровенного мнения насчет дрезденской галереи, — пишет он Кикину, — осмеливаюсь начать с того, что все шесть Корреджиев, — славных картин, делающих дрезденскую галерею славнейшею, по словам здешних беснующихся потомков Альберт-Дюреровых, никогда не сделают и сотой пользы, что одна Пуссенова картина, о котором здесь едва знают, что он какой-то француз».
Но как бы там ни было, а то новое, что увидели братья в Германии, в том числе и работы «беснующихся потомков Альберт-Дюреровых», исподволь делало свою работу: в первую очередь доказывало, что, оказывается, можно создавать картины, вызывающие чей-то восторг, и не пользуясь уроками античности или Рафаэля, оказывается, существует целая армия современников, которые уже давно поставили под сомнение непогрешимость классицистического идеала. В Дрездене Брюлловы могли видеть работы известного романтика Каспара Давида Фридриха. Этот пожилой уже человек одним из первых в Европе поднял голос против засилья антиков: «Должно ли столь прославленное отношение к искусству нашей эпохи проявляться в совершенно рабском подражании хотя и прекрасному, но устарелому искусству прошлого! Есть ли достаточно основания отказывать целому веку в силе творческого выражения, не оскорбляя при этом самих себя и не прегрешая против XIX столетия. Рабские души наших дней недооценивают свою эпоху, а некоторые личности, обладая действительно незаурядными данными, — и самих себя. К этому рабству приучают и вечные поучения и проповеди о необходимости послушания и смирения и отказа от собственной воли и самостоятельности творчества». А в своих романтических пейзажах Фридрих изображал поля, леса, северное море родной Германии — приметы «местного колорита». В его картинах природы могло братьев поразить и вольное отступление от рабского копирования натуры, явная примесь субъективного настроения: он был охвачен идеей о единстве мира природы, олицетворяющей бесконечность, и внутреннего мира человека. Необычной показалась братьям и живопись другого известного немецкого романтика, П. Корнелиуса: «Отдав должную дань его достоинствам, не смеем похвалить его живопись», — говорят Брюлловы.